Мне захотелось узнать, как долго они встречаются. В списке оба значились как второкурсники. Выходит, что в худшем случае их отношения длились уже год.
Я сделал то, что делают в таких случаях все любопытствующие: поискал Джеки в Сети и нашел закрытый профиль. Черт!
Ну а его страничка была открыта – читайте на здоровье.
Кеннеди Мур. Встречается с Джеки Уоллес. Как долго – не сказано, зато есть фотографии, причем не только прошлогодние, но и более ранние. Открывая их одну за другой, я все сильнее бесился без всякой на то причины.
Лето перед поступлением в колледж. Школьный выпускной. Лыжная прогулка на весенних каникулах. Вечеринка-сюрприз по случаю восемнадцатилетия Джеки. Групповая фотография оркестра, в котором было больше народу, чем во всей моей школе. Крупный снимок Джеки в оркестровой униформе и колпаке Санта-Клауса, но без инструмента, так что не поймешь, на чем она играет.
День благодарения дома. Он и она веселятся с друзьями на школьном футбольном поле: дело, судя по всему, происходило в престижном пригороде. Прошлогодние летние каникулы. Бал первокурсников. Еще одно Рождество.
Их самый старый совместный снимок был сделан на осеннем карнавале почти три года назад.
Они встречаются три года. Три года! У меня это в голове не укладывалось.
Вой под дверью известил меня о том, что Фрэнсис вернулся домой после приключений, которыми занимал себя в перерыве между ужином и сном. Как и полагалось воспитанному двуногому соседу по жилью, я отложил ноутбук и пошел встречать кота. Как только я отворил дверь, он сел на коврик за порогом и начал лизать лапу.
– Ну и долго мне еще мерзнуть? – спросил я.
Фрэнсис встал, как будто бы пожав плечами, и лениво потянулся, но пулей рванул в комнату, стоило мне сделать вид, что я собираюсь захлопнуть дверь у него перед носом. Не успел я ее запереть, как меня позвали: «Лукас!» Пришлось открыть снова.
Карли уже поднялась до середины деревянной лестницы, которая вела к моему жилищу, располагавшемуся над гаражом Хеллеров. Было уже поздно. С прошлой весны она ко мне неровно дышала, и это создавало постоянную неловкость. Я притворялся, будто не замечаю ее долгих взглядов и непрерывного хихиканья. Надеялся, что скоро все пройдет. Как бы не так! Я знал Карли с самого ее рождения. К ней и к сыновьям Хеллеров я относился как к сестре и братьям или кузенам – отчасти поскольку ни тех ни других у меня не было. К тому же она была младше меня на пять лет, совсем ребенок. Меньше всего мне хотелось ее обидеть.
Я вышел на порог:
– Привет, Карли. Разве тебе еще не пора спать?
Она наморщила носик и сердито нахмурилась:
– Хм! Вообще-то, мне шестнадцать лет, а не шесть.
Когда Карли добралась до верхней ступеньки и шагнула на маленькую площадку, куда полукругом падал свет, я заметил, что пришла она не с пустыми руками.
– Я испекла печенье. Подумала, вдруг ты захочешь.
– Здорово, спасибо.
Я взял тарелку, но с места не двинулся.
Она переступила с ноги на ногу и, спрятав руки в карманы шорт, спросила:
– Лукас?
– Да? – откликнулся я, а про себя подумал: «Вот дерьмо!»
– А ты не собираешься… начать с кем-нибудь встречаться? Или, может быть, у тебя уже есть девушка, но ты ее сюда не приводишь, или что-то скрываешь?
Я сглотнул, чтобы не рассмеяться.
– Ты имеешь в виду ориентацию? Отвечаю: нет. Будь я геем, я бы давно вам сказал.
Как ни странно, вопрос оказался проще, чем тот, которого я боялся.
– Я так и думала. То есть я хотела сказать, что ты немного не похож на других.
Я повел бровью:
– Ты имеешь в виду лабрет? На губе?
Она кивнула.
– И татушки. – Опомнившись, Карли посмотрела на меня расширенными глазами. – Ой, нет, я просто хотела сказать, что у тебя была своя причина их сделать. Особенно некоторые… – Она закрыла глаза. – Боже, я такая глупая! Извини…
– Все нормально, Карли, не беспокойся. – Удерживаясь, чтобы не посмотреть на татуировки у себя на запястьях, я прикусил металлическое колечко, вдетое в нижнюю губу. – Спасибо за печенье.
Она шумно выдохнула:
– Пожалуйста. Спокойной ночи, Лукас.
Поскольку разговора о девушке удалось избежать, я тоже издал вздох облегчения.
– Спокойной ночи.
Из всех Хеллеров только Карли называла меня Лукасом. Поступив в колледж и уехав из дома три года назад, я захотел поменять в своей жизни абсолютно все. В качестве второго имени мама дала мне свою девичью фамилию – Лукас. Многие люди пользуются вторыми именами, и, что облегчает дело, для этого не нужно никаких бумажных процедур.
Отец отказался звать меня Лукасом, но это меня не особенно смутило: ведь я у него больше не жил, а когда приезжал на каникулы, он почти все время молчал. Родители и оба брата Карли то и дело называли меня по-старому. Не нарочно. Просто больше восемнадцати лет я был для них Лэндоном. Обычно я их не поправлял. Дело ясное: привычка и все такое…
Ну а всем новым людям я представлялся как Лукас. Мне хотелось, чтобы Лэндон исчез навсегда. Перестал существовать.
Я бы должен был догадаться, что все окажется не так просто.
Глава 2
Лэндон
После детского сада меня отдали в маленькую частную школу под Вашингтоном. Все дети там носили форму: девочки – белые блузки с перламутровыми пуговицами, клетчатые юбки в складку и кофты, а пацаны – накрахмаленные оксфордские рубашки, брюки со стрелками и блейзеры. Наши любимые учителя сквозь пальцы смотрели на неуставные шарфики и цветные шнурки, а также на отсутствие кофт и блейзеров, но те, кто построже, отбирали контрабандные предметы и только закатывали глаза, если мы говорили, что плетеные браслеты и блестящие заколки выражают нашу индивидуальность.
Виктора Эванса отстранили от занятий после того, как он отказался снять с себя кожаный собачий ошейник: мол, первая поправка к Конституции предоставляет нам гражданские свободы, а в школьном уставе про ошейники, строго говоря, ничего не написано. После этого администрация стала воевать с нами еще решительнее.
Внешне мы все были на одно лицо, но то, что внутри, важнее, а внутренне я стал совершенно другим человеком, когда вернулся в класс после двухнедельного отсутствия. Я не прошел проверку. Дал обещание и не сдержал его. Пусть внешне я остался прежним, между мной и другими детьми выросла стена.
Мне разрешили наверстать пропуски, как если бы я не ходил в школу из-за тяжелого гриппа, да и вообще я начал чувствовать «особое отношение» ко мне: учителя, которые раньше придирались, хлопали меня по плечу и говорили, что я еще успею всех догнать. Я получал хорошие оценки за дерьмовые сочинения. Когда я не успевал доделать лабораторную, мне давали дополнительное время, а когда проваливал экзамен – предлагали пересдачу.
Что до моих одноклассников, то некоторые из них знали меня с пяти лет, и вот теперь все они бормотали соболезнования, а после неловко замолкали. Никто больше не просил меня помочь с домашкой по алгебре и не приглашал домой поиграть в приставку. Мальчишки не спихивали с парты мои учебники, когда я отворачивался, и не дразнились, когда клубу «Вашингтон редскинз» удавалось разгромить мою любимую команду. Шутки о сексе обрывались на полуслове, как только я входил.
За мной постоянно наблюдали: в классе, в коридоре, на собраниях и во время обеда. Все шушукались, прикрывая рты рукой, качали головами и таращились на меня так, будто считали слепым. Будто я был очень похожей, но жутковатой восковой копией прежнего себя.
Никто не смотрел мне в глаза, словно потеря матери была заразной болезнью.
Однажды на уроке американской истории у мистера Фергюсона в классе стало жарко, и я, не подумав, закатал рукава. Не успел я опомниться, как от стола к столу полетел шепоток. «На запястьях?» – прошипела Сьюзи Гэмин, прежде чем на нее шикнули.
Я опустил рукава и застегнул манжеты, но это не помогло. Сорвавшиеся слова умножились, они превратились в оползень, камнепад, и его было уже не остановить.
На следующий день я надел на левую руку часы на толстом ремешке, натиравшем не до конца зажившую кожу, а на правую – несколько силиконовых браслетов, ношение которых директор недавно строго-настрого запретил. Они стали частью моей повседневной формы.
Никто не заставлял меня их снять, никто ничего не говорил, но все пялились в надежде увидеть то, что скрывалось под ними.
Вещи, которые исчезли из моей жизни:
1. Хоккей. Я начал играть в шесть лет вскоре после того, как папа впервые взял меня на матч «Вашингтон кэпиталз». Мама была не в восторге от моего увлечения, но особо не возражала – возможно, потому, что так укреплялась связь между мной и отцом. Или просто потому, что я очень любил эту игру.
Вообще-то, я правша, но стоило мне зашнуровать коньки и занять свое место в левом крыле, как со мной происходила странная перемена. Орудуя клюшкой, я мог с равным успехом пользоваться обеими руками и в два счета перестраивался, чтобы выбить шайбу из угла или отправить ее в ворота, прежде чем обескураженный противник успевал отреагировать. Моя команда не всегда побеждала, но в последний год мы дошли до финала, и я, перейдя в восьмой класс, не сомневался, что в новом сезоне мы выиграем чемпионат. Тогда казалось, что в моей жизни не могло произойти более важного события.

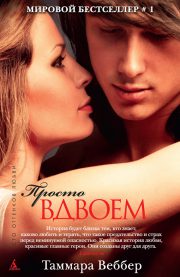
"Просто вдвоем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Просто вдвоем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Просто вдвоем" друзьям в соцсетях.