Иверзнев долго молчал, глядя в тёмное окно и не замечая, что начальник завода с интересом разглядывает его. Казалось, молодой доктор с трудом подбирает слова. Наконец он негромко сказал:
– Афанасий Егорович, вы ведь очень любили свою покойную супругу? Извините, что касаюсь такого деликатного вопроса. Но Алёша часто об этом рассказывал, и я поневоле знаю… Вообразите себе, что вашу жену должны будут убить. И не просто убить, а – терзать мучительно, долго, минуту за минутой, час за часом… И никакое заступничество не поможет, и у палачей нет ни жалости, ни совести. Как бы вы поступили в таком случае? За себя я готов сказать, что сделал бы то же самое, что и Ефим.
Брагин неопределённо усмехнулся. Помолчав, спросил:
– Если Силин так влюблён в собственную жёнку… Куда ж его понесло от неё?
– Осмелюсь предположить, что он действительно свалял дурака, – помедлив, сказал Иверзнев. – За ним это водится. Но мне дорога Устинья, и, если вы выполните её просьбу, я буду вам очень благодарен. Тем более что вы здесь царь и бог…
– …до первой ревизии или доноса, – мрачно, однако без особого страха, закончил Брагин. – Сказал же, что выполню! Я ей благодарен не меньше вашего. Видали Алёшку-то? Экий лихой наездник! Джигитовке у Хасбулата учится!
– Ему это только на пользу, – улыбнулся Михаил.
– Дай бог, дай бог. Впрочем, простите, что задержал вас, час уже поздний. Доброй ночи, Михаил Николаевич.
Иверзнев поднялся и молча поклонился.
Антип и Устинья вышли от начальника завода вместе, и Силин попросил своего конвоира:
– Ступай, дядя Авдонин, до острога. Я Устю Даниловну в больничку доставлю и вернусь.
– Смотри, живо только, Силин!
– Не беспокойся… Устя Даниловна, ну что с тобою-то?
– Ничего, Антип Прокопьич… Ничего. От рёву, видать, голова кружится. Навылась всмерть, аж грудь болит… – Устинья хрипло, тяжело дышала, останавливаясь через каждые несколько шагов. – Господи… Антип Прокопьич, как бы не зря мы это всё устроили-то.
– Ты что ж думаешь?..
– Не воротится ведь он. Не воротится… – Устинья больше не плакала, но её голос – чуть слышный, погасший, – пугал Антипа ещё больше слёз. – Ты ж его знаешь… Коли он на всё махнул да волю искать подался… С чего ему ворочаться-то? Ко мне-то, видать, перегорело у него всё. Не жена я ему больше…
– Пустяки не говори, Устька, – с напускной суровостью перебил её Антип. – Да он за тебя удавится! И кого угодно удавит! Даже и в сомненье не входи! Обождать надо, только и всего. Вот не будь я Антип Прокопов Силин, ежели через десять дён наш Ефимка назад не будет! А может, и раньше! Ты только…
Устинья, не дослушав, снова заплакала: тихо, горько.
– Господи… Господи всеблагой… И пошто мы, бабы, дуры-то такие? Пошто сердцу волю даём? Упреждала ведь меня матерь… И сама я всё знаю, разумею… А вот – не могу… Кабы только можно было, Антип Прокопьич… Кабы можно было сердце связать да заткнуть – нешто бы я за Ефима пошла? Полюбила вот, связалась… И всем теперь худо оказалось. И мне, и Ефимке… И тебе.
Антип ничего не ответил, неспешно идя рядом с ней и поглядывая на чёрное небо с мигающими искрами звёзд. И повернулся лишь тогда, когда Устинья низким, чужим голосом сказала:
– Охти… Тёмно как… – и тяжело осела на землю к ногам Антипа.
Тот неловко подхватил её:
– Устька! Господь с тобой! Что ты?!
Ответа не было. Тогда Антип, как сноп сена, взвалил бесчувственную женщину на плечо и бегом, гремя кандалами, понёсся в сторону лазарета.
Четыре дня товарищи шли сквозь тайгу. К изумлению Ефима, погони не было.
– Да что ж они – вовсе дурни, в лесу нас искать? – развеял его сомнения Берёза. – Нас по деревням вокруг завода, по заимкам выглядывать станут… Людей упредят… Да и мы не дураки – в кабак небось не потащимся. Надо знать, куда заходить, тогда и не сыщут… В лесу-то первое дело – на бурятов не нарваться! Самый пакостный народ! Им за беглых варнаков награда положена. Это ещё дай бог, если по начальству доставят, а не прямо на месте порешат, черти некрещёные…
– Зачем? – недоумевал Ефим. – В чём корысть-то им?
– А одёжа-то наша? А казна, если у кого есть? А оружье? Да сверх того, от начальства им деньга идёт… У них беглые – как отхожий промысел! Потому бежать надо не очертя башку, а тропы верные знать, варнацкие.
Берёза, судя по всему, знал такую тропу: он шагал через тайгу не спеша, уверенно. Иногда спускался в овраг и шёл по его дну, прыгая с камня на камень. Иногда находил чуть заметную, заросшую мхом зарубку на стволе высоченного кедра. Иногда одобрительно кивал, приметив раздвоенную сосну или огромный валун, похожий на перевёрнутый котелок. Вопросов Ефим не задавал, уже уразумев, что Берёза их не любит и отвечает через раз. Сам он на всякий случай запоминал атамановы приметы – хотя и сам не знал зачем, – и поглядывал на солнце – тоже без всякой цели, как всегда делал, даже бродя по знакомому лесу в родном Болотееве. «Мало ль что… Леший закружит. Я – не Устька, у меня с лесными дружбы нету». Но при воспоминании об Устинье сердце дёрнуло такой острой болью, что Ефим покосился на своего спутника: не заметил ли он. Но атаман был погружён в собственные думы.
К счастью, дни стояли тёплые, сухие. Один раз товарищи ночевали в могучем еловом выворотне, под нависшими мохнатыми корнями которого свободно могла разместиться целая артель. Второй раз их приняла старая медвежья берлога под обгорелой лиственницей. Заснуть там Ефим, как ни старался, не смог. Медвежья вонь живо вздёрнула в памяти осенний день три года назад, когда им с братом пришлось сражаться со спущенным с цепи зверем. Наутро Берёза заметил, кажется, что товарищ не выспался, но так ничего и не сказал.
К концу третьего дня они подошли к неприметной, сплошь заросшей мхом и заваленной прошлогодней хвоей избёнке. Она была выстроена на склоне глубокого оврага так, что чужой глаз ни за что не приметил бы её. Однако Берёза вошёл в избёнку уверенно, порылся в потёмках под сырыми замшелыми нарами и извлёк свёрток с медным котелком и окаменелой солью в тряпице. Ефим же сходил на ближнее озерцо, все берега которого были полны прилетевшими дикими гусями. Птицы были непугаными. Они с удивлением смотрели на подошедшего вплотную парня, не пытаясь улететь. Вся стая с истерическим гагаканьем снялась с места лишь тогда, когда Ефим метко запустил камнем в одного из них. Подбитый гусь заполошно хлопал крыльями в камыше, пытаясь взлететь, но Ефим свернул ему шею и с триумфом возвратился в избёнку, где Берёза уже раскочегарил печурку. В этот вечер они впервые наелись досыта, и Ефим заснул мёртвым сном, наспех накидав на влажные от сырости нары наломанных веток. А перед самым рассветом его сдёрнул с нар приглушённый шёпот:
– Вставай, парень… Уходим…
Вскочив на ноги (сон словно ледяной водой смыло), Ефим молча выметнулся вслед за Берёзой в низкое оконце избёнки, ведущее прямо в овраг. Берёза двигался по-волчьи легко, быстро и уверенно. Ефим до сих пор дивился, как этому огромному и уже немолодому мужику удаётся так стремительно и бесшумно перемещаться. Они тенями скользнули по тёмному, мокрому дну оврага, миновали густые заросли можжевельника. Не хрустнув ни веткой, выбрались на другой склон, и лишь тогда атаман показал Ефиму на видневшиеся уже около самой избёнки силуэты конников.
– Буряты? – одними губами спросил Ефим.
– Не вижу… Может, казаки… Сиди не дыши.
Они превратились в изваяния. С другого склона оврага доносились невнятные голоса, лошадиное всхрапывание. Фигуры топтались около избёнки, входя и выходя. Ефим до боли вжимался спиной в мокрый от росы ствол толстенной ели. Думал о том, что опытному человеку сразу станет ясно: в избушке только что были люди. И что тогда? Пойдут искать? Их там пять или шесть, все оружные… Сдюжить ли им с Берёзой? Лица товарища Ефим не видел и лишь по чуть слышному дыханию догадывался, что тот рядом.
Прямо перед его лицом на ветку села пёстрая сойка. Тряхнула хохолком, уставилась на Ефима чёрным сердитым глазом. «Помолчи, родимая! Не выдай!» – мысленно упрашивал её парень, хорошо зная, какой адский стрёкот может поднять эта небольшая птичка. Сойка словно поняла его: взмахнула крыльями и молча перелетела на соседнее дерево, а там и вовсе пропала в чаще. Ефим медленно перевёл дух, чувствуя, как насквозь вспотела рубаха на спине. Поднял глаза – и увидел, что около избёнки уже никого нет. Он обернулся к Берёзе, но тот знаком велел не шевелиться.
Несколько часов они просидели под елью, не двигаясь и стараясь даже не дышать. Солнце уже давно поднялось над тайгой, забилось искрами в росе, в каждой капле на еловых лапах, на молодой траве. Над головой запрыгали серые, не успевшие облинять белки, из чащи донёсся деловитый стук дятла – а они всё сидели и сидели, прилипнув к смолистому, влажному стволу. И только когда мимо избёнки неторопливо прошествовал, ломая сухостой и хрумкая на ходу ветками, огромный лось, Берёза глубоко вздохнул. И беззвучно, как змея, вытек из-под еловых ветвей, знаком велев Ефиму подождать. «Ежели лось туда идёт и человека не чует, стало быть, засады нет», – догадался Ефим. И даже решился осторожно потянуться и выпрямить страшно затёкшие ноги.
Он не ошибся: Берёза вскоре вернулся.
– Вылазь, парень! Нет никого по наши души, ушли.
– Кто это был-то? – сиплым от долгого молчания голосом спросил Ефим, вылезая из-под спасительницы-ели.
– Солдаты, видать. Не буряты, это уж верно. Те – люди таёжные, нюхом бы нас учуяли. Считай, что повезло. Да вперёд осторожней надо быть: ищут нас уже. Возьми… И не срони ненароком. – Берёза нагнулся и, вытащив из сапога, подал парню нож.
Ефим машинально принял его. Нож был крепким, длинным, с выглаженной деревянной рукояткой. С оружием Ефим почувствовал себя уверенней, хотя и привык больше полагаться на кулаки. Пряча нож за пояс, он услышал, как Берёза неторопливо говорит:
– А ты молодец, не перетрухал. Вижу, сгодишься в ватаге. Что ж, уже недолго осталось. К ночи к моему верному человечку выйдем – а там уж, считай, полная воля.

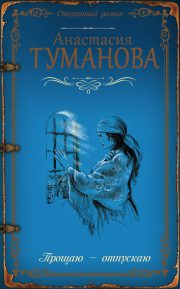
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????