– Трофимов, да не дури ты, ради Христа! – почти жалобно попросил Федотыч. – Ну, куда тебя, ирода, несёт? Ведь не на Зерентуе, не на Каре, не в рудниках… Начальство понимающее! Хорошо ведь здесь!
– Кто ж спорит… – задумчиво согласился атаман, поглядывая на лесистые горы вдали. – Только мне, Федотыч, на Волгу надо. И так позадержался. Год назад обещал быть. Молодцы мои заждались, кабы не разбежались. Прощевай. Дуру твою, уж прости, с собой заберу. Через полверсты где-нибудь на кусту приметном оставлю. А то ещё правда пальнёшь, не ровён час…
– Силин, ну а ты куда? – горестно спросил Федотыч, с укоризной взглянув на Ефима. – Этого-то могила исправит… Бродяга с ветром под хвостом! А тебе на што? У тебя же баба в заводе… Брат родной!
– Кланяйся им от меня, – хрипло сказал Ефим. Отвернулся и вслед за Берёзой нырнул в зеленеющий подлесок. Последнее, что он услышал, был удаляющийся топот: Федотыч помчался поднимать тревогу.
Первым делом сняли сапоги и размотали портянки. После этого овальные браслеты, хоть и с натугой, были сдёрнуты через пятку. Сделав несколько шагов без привычной четырёхфунтовой тяжести, Ефим чуть не потерял равновесие. Ноги сами собой вылетали вперёд, нелепо пиная воздух.
– Привыкай, паря! – скупо усмехнулся Берёза. – Поначалу непривычно будет… А ты наблюдай, наблюдай это дело, окорачивай себя! Потому в людных местах нашего брата беглого первым делом по такой ходочке узнают! Ну да ничего… Покуда лесом будем пробираться, обвыкнешься. Поспешай. Отойдём подале – там и с рук железа посбиваем.
Ефим молча кинул осточертевшую цепь в овраг и вслед за Берёзой зашагал сквозь чащу. Сердце продолжало стучать отбойным молотом. Парень изо всех сил вслушивался в звенящую птицами и мошкарой тишину вокруг, с минуты на минуту ожидая погони, – хотя и знал, что её не будет. Пока не будет. Не эта же инвалидная команда за ними побежит! Вот доберутся до завода, всполошат начальство, казаков… Они с Берёзой к тому времени уже вовсе далеко уйдут! Приободрившись, Ефим осмотрелся. В лесу он не был давным-давно. И сейчас, глядя на молодую зелень вокруг, на траву и курчавый мох, на сырой и чёрный бурелом, по которому прыгали не боящиеся людей птицы, на небо, голубеющее высоко, в разрыве ветвей, он чувствовал, как поднимается настроение.
«На Волгу придём, на вольную жизнь… На стругах будем ходить, купцов пужать толстопузых… Буду вон у Берёзы есаулом, а чего? Сам говорил – ему могутные нужны… Там воля, правда там, чёрный народ не притесняют… Авось и вернусь ещё когда за Устькой-то!»
Солнце уже стояло высоко над тайгой, когда они вышли к берегу небольшой речонки с коричневой, как густой чай, водой. Речка тихо бежала между большими валунами. Найдя подходящий, Берёза достал из-за пазухи припасённое зубило и в два счёта сбил ручные кандалы с товарища. Затем зубило перешло к Ефиму, и тот, в свою очередь, освободил атамана.
– Ну, здравствуй, волюшка! – усмехнулся Берёза, с наслаждением встряхивая освобождёнными кистями. – Не устал ещё топать-то, паря?
– Шутишь? – хмыкнул и Ефим. – В деревне-то подоле ходили. Привычные мы…
Он хотел спросить, сколько времени им придётся шагать по тайге, но после вопроса атамана постеснялся это сделать. Они напились из речушки, перебрались по торчащим из воды валунам на другой берег, перелезли через огромный, поваленный ветром ствол кедра. Там, на поляне среди низеньких сосенок, Берёза нашёл поросль жёлто-оранжевых цветов с закрученными лепестками. Цветы были красивыми, но Берёза, не дав Ефиму насмотреться, быстро повыдёргивал их из влажной, болотистой почвы.
Корешки у цветов оказались круглыми, белыми и волосатыми.
– Лук такой?! – изумился Ефим.
– Навроде того, – без улыбки отозвался атаман, открутив один из корешков от стебля и протягивая его товарищу. Парень взял его с опаской, но, видя, с какой охотой сам Берёза впился зубами в другой корешок, осторожно попробовал. Корень оказался и впрямь похожим на лук, но более сладким и с каким-то мучным привкусом.
– Сарань, – объяснил Берёза. – Первое дело для нашего брата – варнака. Сейчас для ягод ещё рано, и черемши мало. Так хотя бы саранками пробавляться станем.
– И долго так-то? – осмелился спросить Ефим. – Я хотел с собой запасу сделать, да ты не велел.
– И правильно не велел. Запас умеючи надо делать, чтоб не приметили. Держи вот покуда. – Берёза распахнул зипун и вынул из-за пазухи довольно большой чёрный сухарь. Ефим было разломил его, но атаман знаком показал, что парень может съесть сухарь целиком, и сразу достал для себя такой же. Следом за сухарём появилась пригоршня табаку, которым Берёза велел натереться: «Не то мошка зажрёт».
– Дня четыре придётся так-то – на сухарях с корешками, – пояснил он. – Потом выйдем к заимке. Человечек у меня там есть верный. Должок за ним имеется. Долг приму, харчами и деньгой разживёмся – и прямо на Байкал. А там уж вовсе Расея рядышком! Четыре дня-то сдюжишь без харча доброго?
– И поболе приходилось, – процедил сквозь зубы Ефим, чувствуя в голосе атамана скрытую насмешку.
Но Берёза кивнул и, запахнув зипун, молча устремился в чащу.
– Устя! Усти-и-инья! Устя-а-а! Посмотри на меня!
Ликующий мальчишеский крик раздался со двора больницы, и Устинья от неожиданности чуть не выпустила из рук горячий горшок с отваром девясила. Катька, которая, пыхтя от усердия, скоблила у порога полы, бросила нож и кинулась в двери.
Вскоре она с хохотом вернулась:
– Устька, выйди! Да брось ты горшок свой! Я укутаю как надо! Бежи на крыльцо, поглянь!
– Смотри, как следует умотай, в четыре тряпицы! – строго велела Устинья, шагая к дверям. – И что там Алексей Афанасьич вздумали?.. Им вредно носиться так-то да кричать без пути! Как это его Захаровна из горницы выпустила? Барин ещё заругают… Господи! Богородица пресвятая! Алексей Афанасьич! Миленький!!!
На больничном дворе, у распахнутых ворот, перебирали ногами две лошади. На одной восседал, сверкая зубами, черкес Хасбулат, которого Устинья за глаза величала «сатаной некрещёной» и слегка опасалась. Невысокий сухой кавказец был в своём обычном грязном бешмете и мохнатой шапке и сидел на лошади небрежно, чуть откинувшись назад. За плечом его торчало неизменное ружьё. А рядом, на высокой и стройной каурке, гарцевал Алёша Брагин – в белой рубахе нараспашку, взъерошенный и счастливый. Серые глаза его сияли. Увидев Устинью, он привстал в седле и отчаянно замахал ей.
Устинья сбежала с крыльца, и мальчик, спрыгнув с лошади, бросился ей на шею.
– Смотри! Я три версты проскакал с Хасбулатом! Новая лошадь, посмотри какая замечательная! Мы слетали на старые ямы и обратно, и я…
– Совести в вас нету, барин! – ахнула Устя, лихорадочно ощупывая лоб мальчика. – Да нешто можно так?! И без спросу? А Хасбулатку вашего повесить мало! Ишь, нехристь, что вздумал! – через плечо Алёши она грозно замахнулась кулаком на скалящего зубы черкеса. – Аль ополоумел вовсе, басурман?! Куда барину верхи скакать, когда они ещё не…
Она осеклась на полуслове, не обнаружив привычной испарины на лбу мальчика. Забыв про «басурмана», Устя пристально осмотрела Алёшу, который хохотал и силился освободиться, с ног до головы. Затем приникла ухом к его груди, слушая сердце. Стук был учащённым после скачки, но – ровным и спокойным. Рубашка под мышками лишь слегка вспотела.
– Господь-вседержитель… – пробормотала Устинья. – Да как же это?
– А я всем говорил, что ты меня вылечишь! – Алёша наконец вырвался из её рук и понёсся по двору в каком-то диком танце, подпрыгивая и размахивая руками. – Всем говорил – и папеньке, и Захаровне, и Хасбулату! Я им говорил, что Устинья – колдунья из сказки и меня своим волшебным корнем вылечит! Устя! Милая! Я прошлой весной даже подняться не мог! Меня кормили с ложки в постели! Даже читать не получалось, уставал через две страницы, а теперь! А теперь!!! – Он перестал прыгать и снова с размаху обнял Устинью. – Устенька! Милая моя колдунья, какое же счастье! Какая ты умница!
– И господь с вами, барин, уймитесь скакать-то… Как бы хуже не вышло… – пробормотала Устинья, чувствуя, как давят горло подкатившие слёзы. – Нельзя вам сразу так-то…
– Урус баба маладэц! – одобрительно заметил со своей лошади Хасбулат.
– Без тебя, нечисть, знаю! Ты куда барина верхи посадил?! Без спросу, без дозволенья…
– Не ругай его, это папа разрешил! Он видел, что я… Что мне уже можно и что я хочу! Ты ведь занята эти дни, вторую неделю не приходишь! А я уже давно не лежу! И да, я пью твоё лекарство! И весь овёс с подоконника сжевал! Не хуже жеребёнка! И – видишь, видишь! Видишь!!!
– Однако, Устя, ты была во всём права, – негромко заметил вышедший на крыльцо Иверзнев. – И я снимаю перед тобой шапку. Впервые вижу, чтобы так точно был поставлен диагноз и так верно назначено лечение. Ты со своим овсом, который надо жевать среди зимы, попала в самую точку, и… Хасбулат, куда же ты, дьявол, глядишь?! Догоняй!
А Алёша, вскочив на спину каурки, уже выносился со двора. Радостный крик: «Мы на завод, к папеньке!» – донёсся до Устиньи уже через забор. Черкес, гортанно, по-орлиному клекотнув, пустил свою лошадь вдогонку, и вскоре о всадниках напоминал только столб пыли в конце улицы.
– Глупости, Михайла Николаич… – Устинья, прислонившись к столбу крыльца и слабо улыбаясь, вытирала краем передника слёзы. – Кабы у нас таковых Прохоровых на селе не было – ни в жизнь бы я не додумалась, что с дитём делается! Да ещё кабы у меня того корешка не оказалось… Ведь и впрямь – золотой оказался! Только я одного боюсь – как бы всё назад не вернулось, когда корешок-то у меня кончится! И так меньше половины осталось! Да ещё самый большой-то на Яшку извела!
– Думаю, рецидива не будет, – подумав, медленно сказал Иверзнев. – Ты оказалась, опять же, права – у болезни мальчика были нервные корни. Я, дурак, даже не подумал об этом. Да ещё эти твои сказки по вечерам… Вообще, я думаю, стоит ввести такую методику – вылечивание нервной системы путём рассказывания интересных историй! Действует и на старых каторжан, и на маленьких мальчиков! Ты обратила внимание, какая тишина теперь по вечерам в лазарете? Всего две драки и одна поножовщина за целый месяц! Да здесь такого со времён Акинфия Демидова, верно, не было!

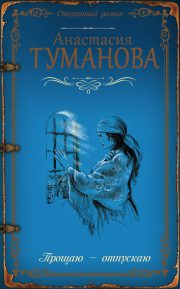
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????