– Дунюшка! – Василиса, вскочив, с размаху кинулась ей на шею.
– Одурела, заполошная?! – завопила Дунька. – Я мокрая наскрозь! Вовсе свихнулась от радости девка… Бежи, бежи в огород-то, покуда хлеще не припустило! Эка возрадовалась… Ну, пошли вам Господь, благодарите барыню!
День шёл за днём, и сибирская весна всё больше входила в силу. Пологие предгорья вокруг завода покрылись оранжево-красными и жёлтыми полосами цветущих саранок. В оврагах цвела черемша. Дни стали долгими, жаркими, близилось лето – а Берёза и не заговаривал о побеге. «Передумал, что ли, дьявол?» – мучился Ефим, стараясь поймать взгляд атамана. Но тот, казалось, нарочно не обращал на парня никакого внимания. Прекратились даже их разговоры на острожном крыльце. Однако, внимательно наблюдая за Берёзой, Ефим заметил, что тот перестал есть хлеб за обедом и всякий раз прячет краюху в карман армяка.
– Сухари сушишь? – рискнул спросить он.
– Сгодятся, – Берёза полоснул холодным взглядом. – Скоро на глину нас погонят… Там и готов будь.
Винокуренный сезон на заводе кончился. Как обычно, больше половины из «винниц» – огромных печей – требовали ремонта, а некоторые и полной переделки. Имевшегося в наличии кирпича никогда не хватало даже для половины ремонтных работ, и на заводе привыкли делать кирпич сами. Белую огнеупорную глину добывали в пятнадцати верстах от завода, в карьере. Формовка кирпича производилась уже на заводе. В карьеры традиционно отправлялись каторжане поздоровее и посильнее, и поэтому не было сомнения, что и атаман Берёза, и братья Силины окажутся в «кирпичной партии». Однако накануне отправки выяснилось, что Антипа Силина начальник оставляет на заводе. Новый мастер, прибывший вместо Рибенштуббе, попросил отдать ему старшего Силина в помощники: «Уж очень хорошо этот парень смыслит в деле».
Услышав о том, что брат остаётся, Ефим даже почувствовал облегчение. Он представить себе не мог, что скажет Антипу, когда придёт время бежать и тот спросит: «Куда подхватился?» Ефим до последнего колебался: не позвать ли его с собой. Но он понимал: ватажничать на Волгу брат не пойдёт, хоть его за ноги подвесь. И молчал.
Неожиданно перед самой отправкой партии Антип подошёл к нему сам.
– Стало быть, на всё лето? – спокойно, словно не было этого трёхмесячного каменного молчания между ними, спросил он.
Ефим растерялся:
– Стало быть, так.
– Хм… До Устиньи проститься не дойдёшь?
– К чему? – с вызовом спросил Ефим. – Помешаю, поди… Занятая она у меня баба.
– Она-то занятая… А ты дурак.
– Ништо. Ты зато умный за двоих. – Ефим снова начал злиться. – Ты зачем рот открыл? Учить меня опять взялся? Так не стоило и труд принимать! Молчи дальше, оно мне спокойнее!
– Лучше бы тебе Берёза молчал, – невозмутимо заметил на это брат. – Ты его там, на карьере-то, поменьше слушай. А то, я смотрю, прямо в рот ему глядишь.
Ефим даже не сразу нашёлся что ответить. Ему и в голову не приходило, что брат знает о его осторожных разговорах с атаманом.
– Тебя спросить позабыл, тетеря! – тем не менее огрызнулся он.
Антип молча взглянул в лицо брата спокойными серыми глазами. Коротко сказал: «Ну, добро…» – и отошёл. Ефиму смертельно хотелось окликнуть его, но он сдержался. Больше они не разговаривали. А наутро партия каторжан под солдатским конвоем вышла с завода в тайгу.
Шли целый день и только к вечеру добрались до изломанного края глиняного обрыва, поросшего молодым сосняком. Большая, почернелая от дождей и времени изба была цела. Но внутри оказалось сыро и промозгло, поэтому первым делом набрали смольняка и затопили. Старая печь сразу отчаянно зачадила, наполнив всю избу вонючим дымом. «В трубе кирпичи обвалились…» – приуныли мужики. Но Ефим забрался на крышу и под общий смех вытащил из трубы прошлогоднее сорочье гнездо. Дым сразу же потянулся куда надо, избу проветрили, нарезали молодого лапника для постелей. Со смехом и шутками принялись варить кашу на костерке у крыльца. Вечер был сыроватый, но тёплый. Тайга, начинавшаяся в двух шагах от порога, уже стояла сплошь зелёная, в ней вовсю перекликались птицы. Когда стемнело, со стороны недалёкого болота послышался страшный утробный рёв.
– Крещёные, кто это?.. – испугался Осяня, никогда в жизни не бывавший в лесу. – Что за зверюга такая бродит? Не медведь ли?
– Выпь это, птица, – нехотя отозвался Ефим, который уже залёг на охапку лапника в дальнем углу. – Завсегда так кричит.
– Нешто птица так орать может? – не поверил Осяня.
Убеждать его Ефим не стал и молча отвернулся к чёрной от сырости, изъеденной жучками и плесенью стене. Разговаривать не хотелось, на душе было муторно. Если бы можно было забрать назад слово, данное Берёзе, он не задумываясь отказался бы от побега. И плевать, что бессовестный Антипка молчит с самой зимы, а Устинья… Устинья нипочём не шла из головы. Там, на заводе, когда она была рядом, в двух шагах, руку только протяни, – Ефим думал о жене меньше. И знал в глубине души – приди он к ней, повинись во всём – и всё стало бы как прежде. И жили бы снова вместе, и она ни словом не упрекнула бы, и Жанетку эту чёртову не помянула б… Вот только из больнички всё равно бы не ушла… Игоша упрямая. От барина своего проклятого не ушла бы… Ну и бог с ней! Ефим старался распалить в себе злость на жену, чтобы легче было исполнить задуманное… Но злости не было, хоть убей. Только тоска, тяжёлая, страшная, давила всё сильнее.
Снова день шёл за днём. Рано утром вставали на работу, рыли глину в ямах у обрыва, таскали её на телеги. Работа была, по меркам Ефима, не тяжёлая. Руки привычно, сами собой кидали лопату за лопатой вязкую массу, а голова была свободна. И в голове той, кроме Устьки, не было ничего. «Скорей бы уж бежать-то…» – изводился Ефим, чувствуя, что ещё неделя-другая – и он плюнет на всё, откажется от побега и, вернувшись на завод, упадёт Устьке в ноги, потому что сил уже нет никаких… Но Берёза молчал. Спокойно работал вместе со всеми, по вечерам сидел на разваливающейся поленнице возле избы, слушал песни и на Ефима даже не смотрел. В конце концов тот с облегчением решил, что атаман и сам передумал бежать. Спросить напрямую он не решался. Но сам почти уже уверился, что через месяц они попросту вернутся, как ни в чём не бывало, на завод. И уже совсем ничего не ждал, когда однажды вечером Берёза вполголоса, глядя в сторону, сказал:
– Завтра побежим, парень.
– А… как? – хрипло спросил Ефим, чувствуя, как шлёпается куда-то в низ живота сердце.
– Я с тобой в дальнюю яму рыть пойду. Оттуда и рванём.
– Со мной Осяня робит.
– Скажется хворым завтра. А мы ночью железа сплюснем. Не спи.
Берёза мог бы и не предупреждать. Ночью Ефим не мог сомкнуть глаз. Он лежал на лапнике, глядя в звенящую комарами темноту, слушал мерный храп товарищей, и в груди было холодно и пусто. Страха не было, мучило лишь тоскливое ожидание: скорее бы… Скорей бы случилось – и не ждать больше ничего, не изводиться, знать, что всё за спиной отрезано напрочь и не вернётся – ни винный завод, ни Антип, ни Устька…
– Парень…
Шёпот был почти беззвучным: комары, казалось, зудели громче, – но Ефим тут же поднял голову. Рядом стоял Берёза. Без слова он поманил его за собой и, повернувшись, тронулся к двери. Ефим, осторожно поднявшись, пошёл следом. Вся изба спала. Пока оба по очереди плющили кандальные браслеты на ногах, никто даже не пошевелился. «Жаль, двери заперты… – подумал Ефим, возвращаясь на место. – Прямо сейчас бы сорваться – и только утром схватились бы… А то бог знает, что завтра-то ещё будет!»
Впрочем, беспокоился Ефим зря. Прокрутившись всю ночь без сна, он забылся только под утро – и сразу же проснулся от старательных воплей Осяни:
– Ой, смерть пришла! Ой, моченьки нету! Ой-й-й, ребята, живот страдает – спасу не-ет… Вчерась в яме надсадился, видать… С глиной этой вашей, чтоб ей пропасть… Ой, отошлите на завод к фершалу-у… Помираю, как Бог свят…
– Ещё лошадь из-за тебя за пятнадцать вёрст гонять, фармазон! – сердито сказал старый солдат Федотыч, склонившись над «умирающим» и трогая его лоб. – Ништо… Жара-то у тебя нету. Стало быть, к обеду, мало к ночи, оклемаешься.
– А коли нет?..
– Ну, тады помрёшь с божьей помощью… Тоже кому плохо?.. Вставайте, золотая рота, лопайте, да на работу! Трофимов, пойдёшь с Силиным в дальнюю?
– Отчего ж не пойти, – буднично отозвался атаман.
У Ефима сердце бухало так, что он удивлялся, – отчего этого не слышит вся артель. Не верилось, что вот сейчас, через несколько часов, всё закончится, и жизнь его повернётся с ног на голову. Вот насилу все наелись… Вот выстроились во дворе для никому не нужной проверки… Вот побрели по местам… День стоял серый, туманный. Блёклое небо, казалось, лежит на макушках сосен и кедров, трава была серой от мороси. Ефим шагал рядом с Берёзой и не понимал, почему топающий вслед за ними Федотыч не замечает, что кандалы на их ногах уже «сплюснуты». Но Федотыч кряхтел, по привычке разговаривал сам с собой, дымил солдатской носогрейкой и видеть ничего не видел.
Когда подошли к «дальней», тусклый шар солнца уже повис над лесом, слабо заиграв искрами в мокрой траве. Ефим то и дело поглядывал на Берёзу, но тот привычно спрыгнул в яму и, как всегда молча, принялся кидать на большие носилки влажную глину. Ефиму оставалось только начать делать то же самое. Однако он не копнул и пяти раз, когда Берёза вдруг решительно воткнул лопату в землю, коротко мотнул головой – мол, делай, как я, – и полез наверх.
– Вы чего, мужики? – удивился инвалид, мирно дымящий своей трубкой в двух шагах, на большом валуне.
– Уходим, Федотыч, – коротко пояснил Берёза, встряхивая от налипших комков глины зипун. – Не поминай лихом.
– Эй, Трофимов, ты что, рехнулся? – Федотыч решительно наставил на него ружьё. – Вот сейчас стрелю, варнак этакой!
– Ну, вот ещё, выдумал… – зевнул Берёза. И, шагнув к солдату, даже не вырвал, а просто взял из его рук оружие. – Ну что ты, ей-богу, усердствуешь? В твои годы здоровье беречь надобно. Меня, допустим, застрелишь, так нешто перезарядиться успеешь? Вот он, – атаман ткнул через плечо на Ефима, – тебя кулаком уложит враз. К чему тебе это?

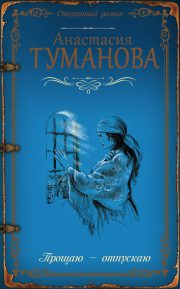
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????