Устинья сочувственно тронула её за плечо. Катька повернулась к ней – и неожиданно улыбнулась во весь рот:
– Да ла-адно! Живы будем – не помрём, вот мой тебе сказ! Нам с Яшкой теперь лишь бы до Сибири дойти да весны дождаться. А там – только нас и видели!
– Нешто побежите?
– Конечно! Нам домой, в табор надо! У меня старшей дочке уж пятнадцать лет, невеста вовсе! Не хватало ещё, чтоб она без нас замуж вышла! Обещалась подождать… Да когда ж это девки замуж ждали? Так что торопиться нам надо… Ой! Чёрта помянешь – он и появится! Ну, как ты здесь, проклятье моё?!
«Проклятье» уже шагало рядом и весело скалило большие белые зубы. Устинья уставилась на Яшку во все глаза. Было интересно, что же в этом мужике оказалось такого, что Катька раз за разом тащила его из тюрьмы и даже каторгу из-за него приняла? На взгляд Устиньи, цыган был самым обыкновенным: лохматым, смуглым, с озорными чёрными глазами.
– Здравствуй, красавица! – поприветствовал он Устинью. – Как дорожка?
– Слава богу, – растерянно ответила она. И сразу же испуганно спохватилась. – Ой! Катька! Дядя Яшка! А не боитесь вы? Солдаты не осерчают ли, что ты сюда… К нам…
– Чего им серчать? – с улыбкой отмахнулся цыган. – Смотри, уж все расползлись! Авось строем-то до самой Сибири не погонят!
Устинья огляделась – и убедилась, что вся партия действительно растянулась по мёрзлой дороге. Женщины шли рядом с телегами, на которых сидели их дети, мужья отыскали жён. К её изумлению, ни конвойные казаки, ни офицер не обращали на это никакого внимания. А тут и её саму окликнул родной голос:
– Устька! Ну – как? Поспать-то успела хоть под утро?
– Поспишь с тобой, как же… – проворчала Устя, не замечая того, как губы сами собой расползаются в счастливую улыбку.
Ефим же через её плечо сердито посмотрел на цыгана:
– А ты, конокрад недобитый, чего на мою бабу вытаращился? Смотри… Приложу железами по башке!
– Ефим!!! – ахнула Устинья. – Да что ж ты, ирод, напраслину-то… Вовсе ополоумел!
Цыган, впрочем, ничуть не обиделся и лишь покачал встрёпанной головой:
– Дурак ты, парень… Твоя Устька хороша – а моя цыганка-то получше будет!
Ефим машинально взглянул на Катьку. Та немедленно высунула длинный розовый язык и скорчила такую рожу, что рассмеялись все вокруг. Усмехнулся и Ефим. А цыганка сообщила Устинье:
– И твой – чурбан, и мой не лучше… А других-то не бывает! Ничего! Живы будем – не помрём и счастья добудем!
За день пути Катька не умолкала ни на минуту. Она успела поболтать с каждой из партии. Всем искренне посочувствовала, а некоторым даже умудрилась погадать. Устинья от ворожбы отказалась:
– Что там… Я про себя сама всё знаю! Ты вон лучше той погадай! С самой Москвы идёт – молчит, бедная… Никому из нас слова не молвила ещё! Верно, вовсе горе у тётки, что губ не разжимает… А видать, не из простых – вон какой на ней салоп хороший, да юбка новая! Может, хоть ты ей дух-то подымешь?
Катька сощурилась на «тётку», которая шла чуть поодаль от всех остальных, мерно гремя кандалами и глядя себе под ноги. Это была женщина средних лет с блёклыми, наполовину седыми волосами, гладко зачёсанными под платок, с сухим некрасивым лицом. Глаза её, близко посаженные, круглые и жёлтые, как у совы, внушали оторопь. Сходство усугублял и застывший немигающий взгляд.
Катька с минуту подумала – и решительно начала разговор:
– Что-то ты, милая, грустишь вовсе… Нельзя так, нельзя! Бог над нами есть, он не оставит! Посмотри на меня! Хочешь – про судьбу твою расскажу? Денег не возьму, вот тебе крест!
– Пошла вон, мерзавка, – тусклым, невыразительным голосом сказала женщина.
– Да за что же ругаешь? – пожала плечами Катька. – Я тебе пока худого не делала. По-доброму говорю, дай погадаю…
– Мне не нужно твоё гаданье, дрянь! – с ненавистью отрезала та. – Отойди, от тебя воняет навозом!
Тут уж прислушались все. С лица Катьки пропала улыбка. С минуту она, сощурившись, смотрела в искажённое брезгливой гримасой лицо. Было видно, что цыганка ничуть не сердится. Затем она кинула взгляд на каторжанок и почти весело скомандовала:
– Вот что, красавицы! Тут – гадание тайное, египтянское, чужим ушам слушать незачем! Идите-идите… Кто подслушает – прокляну и понос напущу до самого Иркутска! А ты, милая, не серчай попусту. Я тебе сейчас всё как есть скажу. И кто ты такая, и за что здесь. И что с тобой тут станется, ежели, к примеру, я…
Тут Катька понизила голос до шёпота, и никому не удалось услышать ни слова. Изумлённые женщины могли только наблюдать, как страшно бледнеет арестантка в хорошем лисьем салопе и как испуганно бегают её блёклые глаза. А Катька всё говорила и говорила. Умолкла она лишь тогда, когда на пронзительный визг обернулись конные казаки:
– Замолчи, проклятая! Я велю тебя… Хватит!!!
– Хватит, – согласилась Катька. – Только не забудь… Упредила я тебя, барыня моя брильянтовая.
И отошла не оглядываясь. Устинья растерянно смотрела в лицо цыганки: оно было незнакомым, презрительным. В чёрных глазах бился сухой и недобрый блеск.
– Господь с тобой, Катька… Чего ты ей наговорила-то?! Вон, она идёт злая-злая, а сама за сердце держится! Зачем напугала-то?
Катька угрюмо молчала. Затем, не глядя на Устинью, медленно, словно раздумывая, сказала:
– Ты вот что… Не лезь лучше к этой. И не заговаривай даже. Незачем.
– Да и не больно-то надо… – пожала плечами Устинья, чувствуя, что цыганку сейчас лучше не трогать. И до самого вечера товарки прошагали молча.
К этапу пришли в сумерках. К общему унынию, в казармы никого не пустили, загнав всю партию на широкий этапный двор.
– Да что ж такое?!. – ругались промёрзшие и голодные арестанты, ёжась от холода. – Совсем у начальства головы отсохли? Околеем ведь!
Конвойный офицер, впрочем, растолковал, что стояние это ненадолго: в казарме неожиданно зачадила печь, и теперь придётся подождать, пока выветрится угарный дым. Услышав это, каторжане слегка успокоились и приготовились ждать. Но даже прыгать и махать руками, чтобы согреться, уже не было сил.
– Всё, бабы, сейчас прямо на снегу и засну! – убеждённо заявила тётка Матрёна. – Все кости гудут, сил нет… Будь она неладна, эта печь! Ох, не дай бог, у меня спину схватит! Не разогнусь ведь наутро, так глаголем и пойду!
Устя молчала: холод, которого днём она почти не чувствовала, теперь пробирал до костей. Вздохнув, она обернулась к цыганке:
– Вот ведь незадача-то, Катька! Как бы теперь не…
Она не договорила. Катька, глаза которой ясно блестели в свете поднявшейся луны, вдруг поочерёдно дрыгнула ногами. Промёрзшие насквозь коты под звон цепей полетели в разные стороны.
– Эй! Вы тут стойте-нойте, коли нужда, а я греться буду! По-цыгански! Яшка! Яшка, где ты там?! Сбага́са ту́са?![1] Зи́ма-лето, зи́ма-лето с холодком…
– …моя жёнка, моя жёнка босиком! – тут же отозвался из толпы её муж. Голос у цыгана оказался сильным и чистым. Он разом покрыл все звуки на дворе: и недовольное бурчание арестантов, и лязг железа, и детский рёв, и фырканье обозных лошадей. Катька топнула и взяла вдруг ещё выше – таким звонким, щемящим серебром, что у Устиньи чуть не остановилось сердце:
Ай, что ж ты вышел, грудь простудишь!
Да ты не бойся – моим ты будешь!
Ну! Мар! Джя! Жги!!! И пошла, пошла по кругу, вкрадчиво переступая по утоптанному снегу. Кандалы на её загорелых босых ногах ритмично брякали, но цыганка словно не замечала их. Ручную цепь она закинула за шею и лукаво задрожала плечами – будто начала свою пляску не на этапном дворе, а в родном таборе, у пылающего костра. Платок её сполз на затылок, выпустив вьющиеся волосы. Небрежным движением кисти цыганка поймала его, не давая упасть. Арестанты смолкли, любуясь на плясунью. Один за другим они начали отступать назад, давая ей место. А Катька шла всё быстрей, била плечами всё чаще, улыбалась всё отчаяннее. Она блестела зубами так, словно и эта морозная ночь, и снег, и тяжёлые оковы – всё на свете было ей трын-трава.
Ходи, изба, ходи, печь!
Хозяину негде лечь!
Пляши, кнут, пляши, дуга,
Веселися, кочерга!
Пьяным море по колено,
Голова недорога!
Ах, как она летала! Как сияли чёрные глазищи, как светились в шальной улыбке зубы! Минута шла за минутой, а Катька плясала и плясала без устали, под восторженные вопли толпы, и снег веером летел из-под её пяток, а от ветхой одёжки валил пар. С крыльца за цыганкой с улыбкой наблюдал конвойный офицер. Солдаты восторженно толкали друг друга локтями. Казаки привставали в сёдлах, чтобы лучше видеть летающий по кругу, смеющийся, бренчащий вихрь. А под конец пляски к жене пробился Яшка, встал фертом прямо перед ней – и, сощурившись, ударил ладонью по голенищу сапога: раз, другой, третий… И взвился в воздух, сверкнув бешеным и горячим чёрным глазом так, что арестанты шарахнулись в сторону:
– Вот ведь цыган… Улетит ведь! Сейчас с железами прямо и улетит! Ну и порода – ничего их, дьяволов, не берёт! Эй! Цыган! Яшка! Давай, чёрт, давай!!! Догоняй её! Гори, душа каторжная! Эх, мужики, кабы мне так… Неделю бы по ярмаркам с цыганами поплясал, а потом – хоть на плаху!
Катька повернулась к мужу, затрепетав плечами так, словно у неё вот-вот должны были вырасти и развернуться крылья. Яшка обеими руками взъерошил курчавые, засыпанные снегом волосы, снова хлопнул по сапогу и полетел за женой. А дальше они уже гремели цепями вместе под дикие крики и хохот всего двора. Никто даже не заметил, как распахнулись двери казармы и унылый голос прокричал:
– Запущайте, можно! Не дымит!
– Ну – и хватит с вас! – внезапно остановилась Катька. – Я согрелась – теперь вы идите грейтесь! Эй, миленькие, не примёрзли вы там? – резко обернулась она к солдатам. – Что такое? Рот не закрывается? Не помочь ли? Да поведёшь ты меня под замок аль нет, казённая морда?!
Подошёл расплывшийся в улыбке солдат и увёл плясунью в камеру-одиночку. Арестанты, ещё смеясь и покачивая головами, потянулись в казармы. Все хвалили Яшку-цыгана, громко восхищались Катькой:

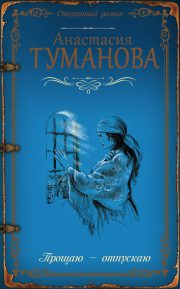
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????