– Дорогая сестрица, ты меня пугаешь, – с притворной серьёзностью объявил Николай. – С такими убеждениями тебя, пожалуй, и в самом деле трудновато будет пристроить! Одна надежда на приданое…
– Глупости, – отмахнулась сестра. – Отец ведь женился на маменьке! А она всегда говорила, что труда стыдиться не до́лжно и что только работа делает человека человеком. И всей своей жизнью это подтверждает! А ведь тоже могла бы говорить, что труд унижает дворянина! И в приживалках бы наверняка не оказалась, у неё ведь три брата… Никогда не устану ею восхищаться… Если бы мне хоть вполовину быть как маменька! А я ведь даже в гувернантки пойти не сумею, потому что не кончила курса ни в пансионе, ни в институте!
– Что за нужда? Сдай экзамен! – улыбнулся Николай. Свет свечи мягко отразился в его карих глазах. – Ты знаешь больше, чем все институтские наставницы и даже директриса! Только для чего тебе в гувернантки? Ты ведь в певицы готовишься! Странные мысли тебя посещают, право… А девицам много думать вредно для цвета лица! Давно ли это с тобой? Или нынешний гость этому виной? – Николай подошёл к окну, вгляделся в темноту. – Давно что-то нет Сержа…
– Как жаль, что актрис не принимают в обществе… – не слыша слов брата, глубоко вздохнула Аннет. Сев за инструмент, она медленно опустила руки на клавиши и повернулась к брату: – Послушай-ка, Коля… Какой уж день этими стихами мучаюсь, и вот только сейчас мелодия в голову пришла. Только не смейся и не перебивай! Просто – послушай… Если уж вовсе никуда не годно, скажешь после… И, пожалуйста, придвинь ближе свечи.
Из-под пальцев Аннет неровно, то тихо, то громче, то вовсе умолкая, поплыли грустные звуки. Вскоре к ним присоединился голос. Пела Аннет тоже неверно, отрывисто, на ощупь находя нужные ноты и сразу же подбирая аккорды. Но мало-помалу из этих столкновений нот и звуков связалась мелодия:
У ног других не забывал
Я взор твоих очей,
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней.
Так память, демон-властелин,
Всё будит старину,
И я твержу один, один:
Люблю, люблю одну!
С первых же нот Николай перестал улыбаться. Отвернувшись от окна, он внимательно, удивлённо и даже слегка испуганно смотрел на сестру. А та, не замечая его взгляда, мучительно морщила лоб, отыскивала на клавишах нужные ноты, брала дыхание и пела, пела… Оба они не заметили, как на пороге комнаты появился старший брат. Прислонившись к дверному косяку, Сергей слушал пение сестры. В темноте лица его почти не было видно. Он стоял неподвижно, с силой сжимая в кулаке мокрую от снега фуражку, и его плотно сжатые губы чуть заметно вздрагивали, словно от сдерживаемой боли. Но Аннет и Николай не видели его.
Второй куплет певица повела уже гораздо уверенней, и чистые, полные светлой печали ноты заполнили полутёмную залу.
И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Я памятью томим;
И где бы я ни стал искать
Былую тишину,
Всё сердце будет мне шептать:
Люблю, люблю одну!
Вместе с последним аккордом Сергей бесшумно отошёл назад в сени. Скрипнула дверь. Николай, вздрогнув, повернул голову, но в этот миг сестра взяла мягкий финальный аккорд и обратила к брату взволнованное лицо:
– Ну… что?
– Аннет, ты… бесподобна, – медленно выговорил он. – Не будь я твоим братом, я был бы у твоих ног.
– У, глупый! – сердито, чуть не со слезами перебила она. – Разве я об этом?! Скажи – как мелодия, как ритм? Ведь это же Лермонтов! Ведь экая наглость с моей стороны класть его стихи на музыку! Но ведь поди ж ты, уже вторую неделю не могу избавиться, и вот сегодня… Ну что ты молчишь, мучитель? Скажи что-нибудь!
– Скажу, что это превосходно, – серьёзно сказал Николай. Подойдя, он взял холодные от волнения руки сестры в свои ладони и с восхищением поцеловал сначала одну, потом другую. – Ты действительно… действительно… Ох, я даже говорить не могу: в зобу дыханье спёрло! Послушай, я сейчас позову маменьку! Ей непременно надо это услышать, она…
– По-моему, ей немного не до нас теперь, – слабо улыбнувшись, возразила Аннет. Глаза её блестели от радостных слёз, дыхание было неровным, словно она не пела, а бежала. – Оставь её, Коля, она после визита Андрея Петровича сама не своя…
– Тогда спой ещё раз, и я послушаю внимательнее! – потребовал брат.
Аннет кивнула, вытерла глаза и вернулась к клавикордам.
Стоя у окна в своей комнате, Вера слушала пение падчерицы. Оно доносилось через стену невнятно, слов романса было почти не разобрать, но мягкие, нежные звуки дёргали сердце, и ещё сильней хотелось плакать. Против воли Веры глаза стали горячими, а потом и вовсе мокрыми, и синие искры в морозном окне задрожали, поплыли.
«Да что же это такое!» – Вера с силой, гневно тряхнула головой, и слёзы покатились по щекам. Она сердито вытерла влажные дорожки, обхватила себя за плечи, сделала несколько шагов по тёмной комнате.
«Совсем распустилась… Учишь эту несчастную дурочку Александрин держать себя в руках, а сама не способна уже сдержаться ни при детях, ни при госте! Как можно было так разнюниться? Не для тебя это удовольствие – ударяться в слёзы по пустякам! Хватит и одной Александрин в семье… А ну хватит, перестань, вытри эту водичку! Ты же Иверзнева! Видел бы отец, видел бы Миша! А если бы Никита!..»
Но при этом воспоминании стало ещё хуже. Слёзы хлынули градом, и Вера, неловко опустившись на край дивана, обхватила голову руками. За окном серебрилась в лунном свете ледяная ночь, за стеной тосковал о несбывшейся любви юный звонкий голос, а Вера плакала, плакала навзрыд, не успевая вытирать слёз.
«Как он мог жениться, как он мог? Зачем?!. Что его вынудило?! Никогда не поверю, что там было что-то грязное, что он был обязан… Он не таков… Но что же, какие могли быть причины? Так внезапно, так неожиданно, никому ничего не сказав, без помолвки… Ведь не спросишь, никак не узнаешь! Если бы Миша был здесь! О, Миша отговорил бы его от этой бессмысленной женитьбы на первой встречной, он бы… Боже мой, Никита, Никита, зачем?! И когда я наконец смирюсь с этим?! Как нелепа, как безжалостна судьба…» – слёзы лились безудержно, перед глазами Веры стояло знакомое с детства лицо – твёрдое, замкнутое, перечёркнутое шрамами, такое некрасивое и такое родное…
«Ты не смеешь, ты не смеешь его упрекать… Ты знать не знаешь, что такое одиночество! Только сейчас и начала понимать – когда осталась без Миши! И даже без него у тебя есть Саша, Петя… Они никогда не оставят, ты всегда будешь чувствовать за спиной защиту… А он всю жизнь, с младенчества, был один! И никто ему не помогал, никто не спрашивал, что у него на сердце… Да он бы и не сказал никому! А ты, ты сама?! Он ведь любил тебя, любил всегда, и ты, несчастная сушёная груша, это знала!»
Представив себя самоё в образе сушёной груши, Вера невольно улыбнулась. Перевела дыхание, вытерла слёзы. Встав, подошла к окну, приложила мокрые ладони к замёрзшему стеклу. Затем прижала их к лицу, ещё раз и ещё – и это помогло.
«Что ж… Всё к лучшему, верно. В конце концов, самым главным для тебя должно быть его счастье. Ты не знаешь этой девочки, его жены… Но, вероятно, у неё есть много достоинств. Он не выглядел несчастным тогда, в октябре…» Вера тяжело вздохнула. Подумала о том, что по лицу Никиты Закатова никогда нельзя было понять – счастлив ли он или, напротив, находится в самой глубине отчаяния.
«Тем не менее сделанного не воротишь… да это и ни к чему. Вспомни, ты сама несвободна до тех пор, пока не вырастут дети. Ты дала слово. Ты – Иверзнева и обязана сдержать клятву. А стало быть – прочь все мысли! И отчего это все люди так уверены, что непременно должны быть счастливы? Вспомни о Мише, дура! Вот кому сейчас плохо! Вот кто совсем один, в далёкой холодной стороне, осуждён безвинно, без друзей, без близких! И ведь даже поехать я к нему не смогу: на кого оставишь детей? Казалось бы – взрослые уже, а делают глупость за глупостью, и удержу никакого не найти! То Серж, то Александрин, то оба вместе! Ругаются без конца, а ведь два сапога пара! Впрочем, я грешу на Серёжу, у него это просто от молодости и вспыльчивости характера… Но тут уж ничего не поделаешь, наследственность… Почему, кстати, его нет до сих пор, время за полночь? Как его, однако, испортили эти два года службы… Я чувствовала, знала, что нельзя его отпускать в гусары… А что можно было сделать? Желание покойного отца… Все Тоневицкие всегда служили в этом полку… Как я могла противиться? А ведь вся эта военная молодёжь сейчас пуста, заносчива, цинична, ничего не читает и знать не хочет ничего, кроме карт… Способны только кутить и играть в штосс на деньги, которых отродясь не умели зарабатывать! Прежде всё было по-другому… Как мне, однако, мешает моя молодость! Я ведь всего на восемь лет его старше. Скоро Серж и вовсе перестанет обращать внимание на мои слова! Если бы мне было хотя бы сорок… Или пусть тридцать семь…» – Вера грустно улыбнулась, подумав, что рассуждает сейчас как брюзгливая старуха.
В сенях скрипнула половица, чуть слышно стукнула дверь. Вера вздохнула с облегчением, поняв, что это наконец-то вернулся старший пасынок. Она в последний раз приложила ледяные ладони к лицу, мельком взглянула в висящее на стене зеркало, поправила причёску и, потушив свечу, вышла из залы.
Добудиться храпящего в сенях Степана оказалось невозможно. Сергей, сердито ругаясь, сам стянул сапоги, швырнул в угол комнаты куртку и, не утруждая себя полным разоблачением, бросился на кровать. И почти сразу же за дверью послышались шаги, а затем и негромкий стук.
– Серж, вы ещё не спите?
– И не думал! Прошу вас, маменька! – Сергей поспешно вскочил и метнулся за брошенной курткой.
Вера вошла, тихо прикрыла за собой дверь.
– Как долго вас не было, однако! Я уже начала волноваться.
– Напрасно, – как можно беззаботней улыбнулся он. – Согласитесь, я уже не мальчик, которому нужны дядька или гувернантка.

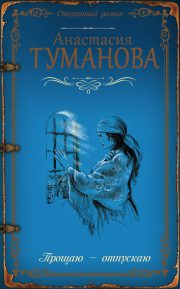
Не возможно оторваться. Читается очень легко. Книга захватывает полностью, порой теряешь связь с реальностью, с головой окунаешься в жизнь героев! Хочется читать и читать????