Тейе испытывала и отвращение, и удивление, узнавая обо всем этом от своих осведомителей, раскинувших сеть в гареме и коридорах власти. Все же она не могла отрицать улучшение здоровья своего супруга, вновь проснувшийся у него интерес к государственным делам и свое хорошее самочувствие. Все вокруг дышало оптимизмом. Воздух был напоен запахами злаков, торопливо дозревающих к сезону сбора урожая, и роскошным благоуханием летних цветов, чьи насыщенные густые ароматы день и ночь сквозняки разносили по галереям дворца. Лишь в зябкие предрассветные часы благостный сон Тейе превращался в тяжелый дурман, к ней возвращались мрачные предчувствия, и она внезапно просыпалась, ощущая, как внутри беспокойно толкается ребенок. Тогда она лежала, глядя на красноватые отсветы и глубокие тени, отбрасываемые на потолок тлеющей жаровней; далеко в пустыне завывали шакалы; донесся одинокий рев осла; однажды она услышала плач и всхлипывания какой-то женщины, ее голос, подхваченный порывом ветра, разнесся, будто эхо другого Египта, мрачного и до краев наполненного непостижимой печалью. В такие минуты, застывающие и безграничные, как сама вечность, настроение всеобщей радости, пронизывавшее дворец, становилось хрупким и нереальным, готовым исчезнуть в один миг. Лишь только Тейе уютно сворачивалась под одеялом, как ее обступало отчаяние; она решительно пыталась бороться с ним, но не могла понять его природу, оно терзало ее, пока она вновь не проваливалась в вязкую дремоту.
Тейе родила мальчика в разгар жаркого летнего дня. Роды были стремительными и легкими. Будто щедрое плодородие египетской земли вдруг выплеснулось через край и захлестнуло дворец, разделив с Тейе свое изобилие. С первым криком младенца по опочивальне пробежал ропот облегчения и одобрения, а Тейе, обессиленная и довольная, уже ждала, когда ей скажут пол ребенка. Эйе протиснулся к ней сквозь толпу и прошептал:
– У тебя мальчик. Чудесный малыш, – и коснулся губами ее мокрых щек.
Взяв его руку, она притянула брата к себе, усадила на ложе и прильнула к нему, пока удостоенные чести царедворцы друг за другом входили в опочивальню, чтобы выразить царице свое почтение. Он сидел, крепко обняв ее и бесстрастно взирая на вереницу кланяющихся. Она уснула задолго до того, как, поклонившись, вышел последний придворный.
После долгих раздумий и нервных обсуждений оракулы определили, что царственный сын должен носить имя Сменхара. Фараон одобрил их выбор и лично пришел сообщить об этом Тейе. Он уселся в кресло рядом с ложем, осторожно посасывая зеленые фиги и обмакивая их в вино.
– Очень хороший знак, что этот ребенок, этот символ новых начинаний, будет носить имя, которого еще никогда не было в царственном доме, – сказал он. – И конечно, весьма кстати, что оно посвящено Ра, потому как солнцу поклоняются повсюду. Интересно, какое имя дадут нашему следующему ребенку. – Он лукаво посмотрел на нее, выковыривая длинным накрашенным ногтем фиговое зернышко из темных зубов.
– Ты поражаешь меня, Гор! – рассмеялась она, заражаясь его восторгом, освобождаясь от своих страхов, готовая поверить в невероятное. – То ли присутствие Иштар, то ли новорожденный сын вернули тебе молодость.
Он счастливо улыбнулся.
– Думаю, и то и другое. В следующем месяце я решил переехать в Мемфис со всем двором, на время самой сильной жары, как раньше. Оставь ребенка кормилицам, Тейе, и поедем со мной.
– Мемфис. – Она откинулась на постели и закрыла глаза. – Как я люблю его. Помнишь, мы с тобой среди подушек под финиковыми пальмами играли в собаку и шакала, вокруг жужжали пчелы… Интересно, захотят ли посланники переехать с нами?
– Разошли сообщения всем их царькам и избавься от них ненадолго. Надиктуй такие послания, которые потребуют длительного обдумывания, чтобы они как можно дольше не беспокоили нас.
– Вот уж воистину прекрасная мысль, – сказала Тейе, расслабленная и умиротворенная, не открывая глаз. – Как давно мы не предавались такой бесстыдной лени. Но, прости меня, Гор, сначала мне надо поспать.
Он поднялся с кресла и наклонился поцеловать ее.
– Поправляйся скорее, Тейе, поедем в Мемфис, будем сидеть на ступенях дворца и любоваться зеленым лесом под ласковыми лучами Ра.
Она ждала, что он вспомнит о присутствии в Мемфисе сына, но он только положил ладонь ей на лоб, движением, неожиданно нежным для такого крупного человека, потом Пиха открыла двери и он вышел. Ей были слышны возгласы вестника, предупреждавшего подданных о приближении царя, звук его голоса становился все глуше, пока не слился с птичьим щебетом за окном, и она улыбнулась, вспомнив прикосновение прохладных пальцев ко лбу. А, будь что будет, – подумала она, не желая прислушиваться к голосу рассудка; она вглядывалась в свое сердце и в сердце Аменхотепа и видела там лишь двоих затаивших дыхание детей, опьяненных безграничной властью, данной им судьбой, и любовью, не знавшей обмана и не остывшей за годы дружбы.
Радостное оживление, охватившее двор после рождения Сменхары, скоро утихло, ибо, казалось, фараон сорвал последний плод своего дряхлеющего тела и неукротимой воли. Месяц спустя его одолела лихорадка, вновь загноились десны, причиняя невыносимые страдания. По его просьбе Тейе долго не виделась с ним, однако регулярно вызывала его врачевателей и выслушивала их туманные, учтивые доклады. Он, как мог, держался за жизнь, лежа в полумраке опочивальни, где с каждым днем становилось все труднее дышать: сезон шему медленно подходил к концу, жара усиливалась.
Все долгие ночи мальчик лежал рядом с ним на ложе, неподвижный и молчаливый, а царственный любовник беспокойно метался и что-то бормотал о людях, умерших еще до его рождения, и событиях, давно ушедших в прошлое. Аменхотеп не отпускал мальчика, хотя прикасаться к нему не мог, сил не было. Слушая врачевателей, Тейе заподозрила это и ощутила горечь несбывшихся надежд и вину за то, что радость от рождения сына заставила фараона жить торопливой и насыщенной жизнью, на пределе сил.
Она с сожалением осознала еще один источник своей вины перед фараоном. Каждый вечер, когда заходящее солнце заливало комнату красным светом, придавая коже Тейе таинственное бронзовое сияние, она, стоя перед большим медным зеркалом, изумленно любовалась новым дыханием жизни, что подарил ей маленький Сменхара. Она знала, что ей несвойственна та холодная, неприступная красота, которой обладала племянница, и многие годы это ее совсем не беспокоило. Ее привлекательность таилась в жизнестойкости, в земной, откровенной чувственности. Она внимательно изучала свою фигуру, невысокую, средней комплекции, с хорошо выраженными бедрами, в меру узкой талией, не большой, но и не маленькой грудью, уже определенно начинающей терять упругость. Шея у нее была длинная и стройная. Она могла бы гордиться собой, но гордость своим телом уже не доставляла ей прежней радости, потому что все удовольствия плоти не могли сравниться с удовольствиями живого, пытливого ума.
Она критически рассматривала свое лицо. Оно выдает мой возраст, – думала она. – Веки слишком нависают. Носогубные складки, возможно, были прорезаны мстительным сфинксом, которого я ношу между грудей. Рот слишком крупный, хотя он очень нравится Аменхотепу, он называет его сладострастным, но, когда я не улыбаюсь, губы кажутся надутыми. И все же… – Она улыбнулась своему отражению, излучавшему мягкий блеск расплавленного золота. – Я чувствую себя возрожденной, тогда как мой фараон отчаянно борется со смертью. Она отвела взгляд от зеркала.
– Убери его! – крикнула она Пихе. – И позови музыкантов и танцоров. Я еще не настолько утомилась, чтобы ложиться спать.
Она надеялась развлечься, но напрасно. Музыканты играли, юноши танцевали безупречно, и все же Тейе знала: ничто не может отвлечь ее от мысли, что они с мужем все больше и больше отдаляются друг от друга.
Прошел безжалостно жаркий месяц мезори. Приближался день Нового года, знаменующий начало месяца тота. В этот день Амон покидал свое святилище в Карнаке и переправлялся в золотой барке на юг, в храм Луксора, который Аменхотеп строил последние тридцать лет. Фараон обычно сопровождал бога в Луксор и на четырнадцать дней празднования отождествлял себя с Амоном, будто перевоплощаясь в него.
За две недели до празднований Тейе вызвала к себе Птахотепа и Суреро.
– Суреро, близится праздник Опет.[13] Ты управляющий фараона, ты все дни проводишь с ним. Как по-твоему, сможет он выдержать путешествие в Луксор?
Суреро заколебался.
– Для трапезы он встает с постели. Вчера ненадолго выходил в сад.
– Это не ответ. Птахотеп, мне известно, что сегодня утром ты провел с ним немало времени. Что скажешь ты?
Она не заботилась о том, чтобы скрыть свое презрение. Верховный жрец недолюбливал ее. Это был суровый, практичный человек, который ревностно оберегал богатства своего бога и всю жизнь подозревал Аменхотепа в легкомысленном отношении к Амону, скрытом за формальными ритуалами и традициями. Благочестивая супруга могла бы повлиять на его мнение, но Тейе сознавала, что он считает ее простолюдинкой, сколь богатой и влиятельной ни была бы ее семья, и притом простолюдинкой-чужеземкой, поэтому не ждал от нее глубокого понимания уз, связывавших фараона с Амоном. Хуже было то, что она поддерживала фараона в его желании возвысить Ра и его физическое проявление на земле, Атона, до положения еще более высокого. Тейе пыталась объяснить Птахотепу, что политика ничего не значит для большинства населения Египта, потому что почитатели Ра как солнечного диска составляют малочисленный культ, приверженцами которого являются только умудренные жрецы да некоторые царедворцы. Это был скорее хитрый политический маневр, имевший целью поддержать чувство единения среди вассалов империи и несамостоятельных государств – подданных Египта. Потому что все люди, независимо от их вероисповедания, поклоняются солнцу. Возвышение Атона могло бы послужить укреплению теплых взаимоотношений между Египтом и независимыми иноземными царями и заставить последних стать более сговорчивыми в вопросах торговли и политических соглашений. Пока угроза Амону, которой Птахотеп так явно опасался, не появилась, но его все больше удручали повсеместное ослабление религиозных устоев и легкомысленное непочтение скучающего двора. Сейчас в Карнак приходит больше крестьян, чем знати, и подношения их, соответственно, небогатые и примитивные. Она холодно смотрела на верховного жреца, пока тот собирался с мыслями.

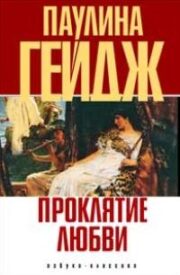
"Проклятие любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Проклятие любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Проклятие любви" друзьям в соцсетях.