– Иди ложись, – говорю я. – Утром тебя будет тошнить, как щенка.
Он удивленно качает головой.
– Голова у него железная, – повторяет он. – Железная голова и сердце, как наковальня. Знаешь, что он затеял?
– Нет.
– Он подрядил ее собственного дядю, ее дядю, Томаса Говарда, собирать свидетельства против нее. Томас Говард будет искать свидетельства против этого брака. Он будет опрашивать свидетелей против собственной племянницы.
– Железные люди, каменные сердца. А что с принцессой Марией?
Монтегю бестолково кивает.
– Я не забыл о вашей любви к ней, я никогда не забываю, леди матушка. Я сразу об этом сказал. Я ему сразу напомнил.
– И что он ответил? – спрашиваю я, борясь с желанием окунуть своего пьяного сына головой в ведро ледяной воды.
– Сказал, что у нее будет подобающий двор и свита и ее будут чтить в новом доме. Ее объявят законной. Ей все вернут. Она будет при дворе. Королева Джейн будет ее другом.
Я едва не закашливаюсь, услышав новое имя.
– Королева Джейн?
Он кивает:
– Невероятно, да?
– Ты уверен?
– Кромвель уверен.
Я тянусь к нему, забыв про запах вина, бренди и пряного эля. Глажу по щеке, а он мне улыбается.
– Молодец. Хорошо, – говорю я. – Может быть, все это кончится хорошо. И это ведь не просто Кромвель отпускает хлеб по водам? Это воля короля?
– Кромвель ничего и не делает, кроме как по воле короля, – уверенно произносит Монтегю. – В этом можешь не сомневаться. И сейчас король хочет, чтобы принцессе все вернули, а этой Болейн не было.
– Аминь, – говорю я, бережно выталкивая Монтегю за дверь своих личных покоев, где дожидаются его люди. – Уложите его, – велю я. – И дайте проспаться.
С этой тайной в сердце, внезапно исполнившись надежды, я еду навестить кузину Гертруду Куртене в ее лондонском доме, в Паунтни. Ее муж Генри при дворе, готовится к турниру в честь Майского праздника, Монтегю тоже должен остаться при дворе. После турнира все отправятся на пышный праздник, который устраивает во Франции король Франциск. Что бы ни замышлял Кромвель против Болейн, он не торопится, и нет способа приблизить дружбу с Испанией или возвращение к Риму. Поскольку Томасу Кромвелю я верю не больше, чем любому наемнику, что шляется по борделям Патни, я думаю, что он очень даже может играть за обе стороны сразу, за Болейн и Францию против моей принцессы Марии и Испании, пока не поймет точно, кто выигрывает.
Кузину Гертруду разрывает от желания посплетничать. Она вцепляется в меня, едва я спешиваюсь и захожу в холл.
– Идем, – говорит она. – Идем в сад, я хочу поговорить с тобой там, где нас не подслушают.
Я со смехом следую за ней.
– Что такого срочного?
Как только она поворачивается, чтобы заговорить, мой смех иссякает, такое у нее серьезное лицо.
– Гертруда?
– Король говорил с моим мужем с глазу на глаз, – говорит она. – Я не посмела тебе об этом писать. Говорил после того, как его наложница потеряла ребенка. Сказал, что теперь понимает, что Господь не даст ему от нее сына.
– Я знаю, – отвечаю я. – Я тоже об этом слышала. Даже в деревне я об этом слышала. Все при дворе, наверное, знают, а раз все знают, то не иначе король и Кромвель хотят, чтобы все знали.
– А вот чего ты не слышала: он говорит, что она соблазнила его колдовством, что поэтому у них и не будет сына.
Я поражена.
– Колдовством?
Я понижаю голос, повторяя это опасное слово. Обвинить женщину в колдовстве все равно что приговорить ее к смерти – какая женщина сможет доказать, что несчастье не ее рук дело? Если кто-то скажет, что его сглазили или заколдовали, как доказать, что этого не было? Если король говорит, что его околдовали, кто ему скажет, что он ошибается?
– Помилуй ее Господи! Что ответил кузен Генри?
– Ничего. От изумления не мог говорить. К тому же что ему было говорить? Мы все думали, что она свела его с ума, все считали, что она всех вокруг сводит с ума, он был не в себе, как помешанный, так кто скажет, что это не было колдовством?
– Мы видели, что она вертит им как хочет, – раздраженно отвечаю я. – Никакой тайны в этом не было, никакого волшебства. Ты не понимаешь, что Джейн Сеймур подталкивают к той же игре? Шаг вперед, шаг назад, почти соблазнилась – и тут же отпрянула? Мы разве не видели, как король сходил с ума по десятку женщин? Это не волшебство, это то, как ведет себя любая потаскуха, если у нее есть капля ума. Разница в том, что Болейн была смышленее прочих, за ней стояла семья, – а королева, Господь ее благослови, старела и не могла больше иметь детей.
– Да, – одумывается Гертруда. – Да, ты права. Но все же, если король думает, что его околдовали, если король считает ее ведьмой и полагает, что этим объясняются ее выкидыши, – это все, что имеет значение.
– И что еще имеет значение, так это как он собирается в связи с этим поступить, – говорю я.
– Он ее оставит, – с торжеством произносит Гертруда. – Обвинит ее во всем и оставит. А мы, и Кромвель, и все, кто к нам близок, поможем ему это сделать.
– Как? – спрашиваю я. – Именно над этим Монтегю сейчас трудится с Кромвелем, Кэрью и Сеймуром.
Она улыбается.
– Не они одни, – замечает она. – Десятки других людей. И нам даже не придется действовать самим. Этот дьявол Кромвель все за нас сделает.
Я остаюсь отобедать с Гертрудой и осталась бы еще на дольше, но днем за мной является один из людей Монтегю и просит меня вернуться в Л’Эрбер.
– Что случилось?
Гертруда выходит со мной во двор конюшни, где стоит под седлом моя лошадь, готовая к отъезду.
– Не знаю, – отвечаю я.
– Но ведь нам ничто не угрожает? – осведомляется она, вспоминая наш тайный тост за обедом: за падение Анны и за то, чтобы король пришел в себя и назвал принцессу Марию своей единственной истинной наследницей.
– Не думаю, – говорю я. – Монтегю бы меня предупредил. – Думаю, у него для меня есть работа. Возможно, мы наконец-то начали брать верх.
Монтегю меряет шагами нашу личную часовню, словно хочет бежать на побережье, к услужливому шкиперу в Грейз и уплыть к брату Реджинальду.
– Он сошел с ума, – шепотом произносит Монтегю. – Думаю, теперь он на самом деле сошел с ума. Все в опасности, никто не знает, что он сделает в следующее мгновение.
Меня поражает эта внезапная перемена. Я откладываю плащ и беру сына за руки.
– Успокойся. Рассказывай.
– Ты ничего не слышала на улицах?
– Ничего. Некоторые меня приветствовали, когда я ехала, но по большей части было тихо…
– Потому что в это поверить невозможно! Он!.. – Монтегю прижимает ладонь к губам и оглядывается.
В часовне нет никого, кроме нас, пламя свечей то подрастает, то опадает, никто тихонько не открывал и не закрывал дверь, пламя не трепещет. Мы одни.
Монтегю поворачивается и опускается рядом со мной на колени. Я вижу, как он бледен, как дрожит, как подавлен.
– Он велел арестовать Анну Болейн за прелюбодеяние, – выдыхает он. – И мужчин из ее свиты, за то, что хранили ее тайны. Мы не знаем скольких. Мы так и не узнали кого.
– «Скольких»? – не в силах поверить я. – Ты о чем это, «скольких»?
Он вскидывает руки.
– Знаю! Зачем ему обвинять больше одного, даже если у нее в постели побывали десятки? Зачем допускать, чтобы о таком узнали? И зачем ему выдумывать такую невероятную ложь, если он может просто оставить ее, не говоря ни слова! Арестовали Томаса Уайетта, Генри Норриса, а еще мальчишку, который поет у нее в покоях, и ее собственного брата.
Он смотрит на меня.
– Ты его знаешь! Что у него на уме? Зачем он это делает?
– Погоди, – говорю я. – Я не понимаю.
Я пододвигаю стул священника и опускаюсь на него, потому что у меня подкашиваются ноги. Я думаю, что слишком стара для этого, мне уже не так легко даются подозрения и выводы. Король Генрих меня опережает, чего никогда не случалось с принцем Генрихом. Потому что принц Генрих был смышлен и умен, но король Генрих скор и хитер, как безумец; его решимость неудержима.
Монтегю медленно повторяет имена, упоминая еще нескольких мужчин, которых недосчитались при дворе.
– Кромвель говорит, что она родила чудовище, – продолжает мой сын. – Словно это все подтверждает.
– Чудовище? – глупо повторяю я.
– Не мертвого ребенка. Какое-то пресмыкающееся.
Я смотрю на сына в немом ужасе.
– Господи, как же Томас Кромвель находит грех и содомию всюду, куда бы ни посмотрел! В моем приорате, в спальне королевы. Что у него за ум. Что за голоса он слышит в молитвах?
– Важнее ум короля. – Монтегю кладет руки мне на колени и смотрит на меня снизу вверх, словно я по-прежнему его всемогущая мама и могу все исправить. – Кромвель делает лишь то, что скажет вслух король. Он будет судить ее за прелюбодеяние.
– Судить за прелюбодеяние? Свою собственную жену?
– И, Боже помоги мне, я – один из присяжных.
– Ты присяжный?
– Мы договорились! – Он вскакивает на ноги и ревет. – Все, кто встречался с Кромвелем, кто сказал, что поможет ему признать брак недействительным, призваны на суд. Мы думали, что речь об освобождении короля от недействительного брачного обета. Думали, что рассмотрим законность этого брака и признаем его недействительным. А не об этом! Не об этом!
– Он судит свой брак? Он его признает недействительным? – спрашиваю я. – Как попытался сделать с королевой?

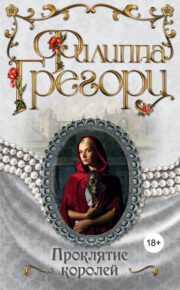
"Проклятие королей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Проклятие королей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Проклятие королей" друзьям в соцсетях.