Заключенные в Тауэре тоже ждут. Недавно арестованные служители церкви ломаются и признают, что, несмотря на то, что принесли королевскую присягу, в сердце своем никогда не верили, что Генрих – верховный глава церкви. Они уверяют, что ничего не сделали, разве что сами сокрушались по поводу своей ложной клятвы; они не собирали ни деньги, ни людей, не сговаривались ни с кем и не выступали. Они молча желали восстановления монастырей и возвращения прежних обычаев. Невинно молились о лучших временах.
Эдвард Невилл, мой кузен, совершил немногим больше. Однажды, лишь однажды он сказал Джеффри, что хотел бы, чтобы принцесса взошла на престол, а Реджинальд вернулся домой. Джеффри рассказывает дознавателям об этом разговоре. Бог его прости, мой любимый, мой малодушный сын-предатель рассказывает им, что однажды сказал его кузен, в доверительной беседе, много лет назад, в беседе с человеком, которому верил, как брату.
Кузену Генри Куртене нельзя предъявить обвинение, поскольку против него ничего не могут найти. Он, возможно, и говорил с Невиллом, или с моим сыном Монтегю; но никто из них не рассказывает ни о каких разговорах, и сами они ни в чем не сознаются. Они остаются верны друг другу, как и положено родственникам. Даже когда каждому говорят, что другой его предал. Они улыбаются, как истинные рыцарственные лорды, они понимают, когда им лгут, опорочивая честь семьи. И молчат.
Разумеется, широко известно, что жена моего кузена Гертруда посещала Блаженную Деву из Кента и жалела королеву Катерину; но ее за это уже простили. Однако ее все равно держат под стражей и каждый день допрашивают о том, что Блаженная Дева из Кента рассказала ей о смерти короля и о его неудавшемся браке с Анной Болейн. Ее сын Эдвард живет в комнатке рядом с ее камерой, ему разрешают заниматься с учителем и упражняться в саду. Мне кажется, что это хороший знак, он говорит о том, что его собираются скоро отпустить, – его бы ведь вряд ли сажали за уроки, если бы не думали, что однажды он отправится в университет?
Все, что есть против Генри Куртене, – это одно предложение; за ним записали: «Надеюсь, однажды я увижу мир повеселее». Когда я об этом узнаю, я иду в часовню и, взявшись за голову, думаю о том, что мой кузен Генри надеялся увидеть мир повеселее – и в этом обыденном оптимизме видят свидетельство против него.
Встав перед алтарем на колени, я думаю: Господь тебя благослови, Генри Куртене; я не могу с ним не согласиться. Господь благослови тебя, Генри, и всех заключенных, которых удерживают за веру и убеждения, где бы они ни были этим вечером. Господь тебя благослови, Генри, я думаю так же, как ты и как думал Том Дарси. Как и ты, я все еще надеюсь, что однажды мир станет повеселее.
Еще до того, как мой сын и его кузен Генри Куртене предстают перед судом, в Тауэре оказывается лорд Делавер – за отказ стать присяжным на их слушании. Против него ничего нет, ни шепотка, Томас Кромвель ничего не может придумать; Делавер просто выказал отвращение к подобного рода судам. Он поклялся, что не станет судить еще одного старого друга, после того, как отправил на эшафот Тома Дарси, и теперь отказывается стать присяжным на суде у моего сына. Его берут под стражу на пару дней, рыская по Лондону в поисках сплетен о нем, а потом Делавера приходится отпустить домой, приказав не покидать дом.
Я, конечно, не могу его навестить, я даже не могу послать ему письмо, чтобы поблагодарить, потому что мои дознаватели сидят со мной между завтраком и обедом, снова и снова спрашивая, помню ли я то, что было восемнадцать лет назад, когда Монтегю сказал что-то, гуляя по саду с Генри Куртене, и пел ли писарь при моей кухне, Томас Стэндиш, песни надежды и восстания. Упоминал ли кто-нибудь про май. Говорил ли, что май не придет. Но мальчишка-конюх отправляется по моему поручению в Л’Эрбер, и, гуляя на следующий день в саду, лорд Делавер находит на тропинке переброшенный через стену бутон белой розы из шелка – и понимает, что я ему благодарна.
– Боюсь, графиня, вам придется у меня погостить, – говорит мне за обедом Фитцуильям.
– Нет, – отвечаю я. – Я нужна здесь. В таком большом поместье слишком много работы, и мое присутствие успокаивает эти края.
– Что ж, придется нам пойти на риск, – говорит епископ, улыбаясь своей шутке. – Потому что вас надлежит взять под стражу в Коудрее. Можете успокаивать их из Сассекса. И, прошу, не тревожьтесь о своем поместье и имуществе, мы их забираем.
– Мой дом? – спрашиваю я. – Вы забираете замок Уорблингтон?
– Да, – отвечает Уильям. – Пожалуйста, немедленно подготовьтесь к отъезду.
Я вспоминаю белое лицо Хью Холланда, когда его везли из Бокмера в Лондон, привязав к седлу.
– Мне понадобится паланкин, – говорю я. – Я не смогу проделать весь путь верхом.
– Можете ехать позади моего начальника стражи, – холодно произносит Уильям.
– Уильям Фитцуильям, я вам в матери гожусь, негоже вам так сурово со мной обращаться, – внезапно срываюсь я и вижу, как его лицо оживляется.
– Ваши сыновья куда хуже меня, – говорит он. – Они признаются в том, что бунтовали против короля. Вот это – по-настоящему суровое обращение с матерью, они вас погубят.
Я отступаю, расправляю платье и смиряю гнев.
– Они ничего подобного не говорят, – тихо отвечаю я. – И я не знаю ничего, что можно поставить им в вину.
В Мидхерст мы едем два дня, дороги так грязны и размыты наводнением, что мы несколько раз сбиваемся с пути. Еще в прошлом году мы могли бы с удобством остановиться в одном из больших монастырей неподалеку, и монахи послали бы с нами мальчика, чтобы вывел на нужную дорогу, но теперь мы едем мимо большой церкви аббатства, а в ней темно, и витражные окна выбиты ради свинца, а с крыши снят шифер.
На ночь остановиться негде, кроме грязного постоялого двора в Петерсфилде, возле кухонной двери которого и на улице толкутся нищие, чей голод и отчаяние говорит о том, что закрылись кухни аббатства, его больница, и оно перестало раздавать милостыню.
В прекрасный морозный вечер мы добираемся до обширных полей перед Коудреем и едем под голыми деревьями. Когда солнце скрывается за покрытыми густым лесом извивами долины Ротера, небо становится бледно-розовым. При виде отдыхающих пастбищ Коудрея я начинаю скучать по своим полям. Приходится верить, что я их еще увижу, что я вернусь домой, что сыновья вернутся ко мне, что этот холодный закат сменится тьмой, а потом рассветом, и завтра для меня и всех моих наступит лучший день.
Это новый дом Фитцуильяма, и он гордится им, как всякий, кто недавно приобрел новое владение. Мы устало спешиваемся перед открытой дверью, ведущей в темный холл с деревянными панелями, и нас встречает Мейбл Клиффорд, жена Фитцуильяма, со своими дамами, в лучшем своем платье, в низко надвинутом английском чепце и с лицом, темным от дурного настроения.
Я едва присаживаюсь перед ней и вижу, как неохотно она отвечает. Она ясно дает понять, что ей нет нужды выказывать изысканные манеры; но точно не знает, как именно ей себя вести.
– Я приготовила комнаты в башне, – говорит она мужу, не глядя на меня, когда он заходит в холл, сбрасывает плащ и стягивает перчатки.
– Хорошо, – отвечает он и поворачивается ко мне: – Вы будете обедать у себя, вам будут прислуживать ваши люди. Можете гулять в саду или у реки, как пожелаете, только в сопровождении двоих моих людей. Ездить верхом вам не разрешено.
– Ездить куда? – высокомерно спрашиваю я.
Он осекается.
– Никуда.
– Я, как можно понять, никуда не хочу ехать, кроме как домой, – говорю я. – Если бы я хотела сбежать за море, как вы, видимо, полагаете, я бы уже давно это сделала. Я прожила дома много лет.
Я позволяю своему взгляду скользнуть по раскрасневшемуся злому лицу жены Уильяма и новой позолоте на деревянной резьбе их дома.
– Много лет. Моя семья здесь уже не первое столетие. И, надеюсь, я проживу дома еще много лет. Я не мятежник, и в моем роду нет мятежников.
Это выводит Мейбл из себя, как я и думала, поскольку ее отец почти всю жизнь скрывался, будучи предателем моей семьи, Плантагенетов.
– Так что, прошу, сейчас же проводите меня в мои покои, поскольку я устала.
Уильям разворачивается, отдает приказ, и домашний прислужник ведет меня в крыло дома, где расположены комнаты башни – одна над другой, вокруг винтовой лестницы. Я взбираюсь по ней устало, медленно, все кости в моем теле ноют. Но мне не позволено пойти одной, а за перила я держаться не буду, если на меня кто-то смотрит. Со мной идет Уильям, и когда мне смертельно хочется сесть у огня и пообедать, он снова спрашивает меня, что я знаю о Реджинальде и о том, собирался ли Джеффри к нему убежать.
На следующее утро, после завтрака, пока я молюсь, он снова приходит, на этот раз с бумагами в руках. Как только мы уехали из Уорблингтона, мои покои обыскали, перевернув все вверх дном в поисках чего-нибудь, что можно против меня использовать. Нашли письмо, которое я как раз писала Монтегю; но в нем ничего нет, кроме того, что он должен быть верен королю и надеяться на Бога. Писаря при моей кухне, бедного Томаса Стэндиша, допросили, заставив его сказать, что, по его мнению, Джеффри мог нас покинуть. Уильям из этого раздувает целую историю, но я помню тот разговор и перебиваю его:
– Вы ошибаетесь, милорд. Это было после того, как Джеффри себя ранил в Тауэре. Мы боялись, что он умрет, поэтому мастер Стэндиш и сказал, что боится, что Джеффри нас покинет.
– Вижу, вы кроите и меняете слова, – рассерженно говорит Уильям.
– Совершенно нет, – просто отвечаю я. – И я бы предпочла вообще никаких слов вам не говорить.

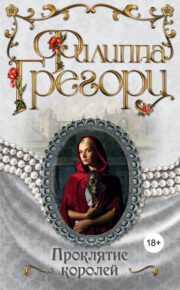
"Проклятие королей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Проклятие королей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Проклятие королей" друзьям в соцсетях.