— Какая причина?
Княгиня Францишкова подняла брови:
— Простите, мама, но эта внезапная болезнь… что-то в ней подозрительное. Что-то должно было случиться.
Всю дорогу княгиня не могла успокоиться. Люция беспрерывно плакала, юные княжны напрасно старались ее утешить.
Они прибыли в Ручаев в понедельник вечером. Их встречали пан Рудецкий и Брохвич. На крыльце в окружении ручаевских слуг стоял заплаканный Юр.
Старая княгиня Подгорецкая впервые увидела Ручаев. Она вошла в дом, словно олицетворение печали — высокая, величественная, вся в черных кружевах, в тяжелых складках длинного темного платья. Княгиню сопровождала панна Рита, тоже одетая в траур. За ними шли пани Идалия с Люцией, княгиня Францишкова и княжны. Замыкали шествие Трестка и Брохвич. Пан Рудецкий шел впереди.
Когда они вошли в салон, несколько стоявших там соседей пана Рудецкого расступились перед величественной княгиней.
— Подгорецкая… бабушка майората… приехала… — зашептались они, поглядывая с уважением на медленно шагавшую матрону, чуть высокомерную, гордо выпрямившуюся, но несшую в лице и походке неизгладимую печать несчастья и печали. Седые волосы, падавшие на плечи из-под черного кружевного чепца, придавали ей вид средневековой королевы. Старая княгиня, дольше и упорнее всех сопротивлявшаяся женитьбе внука, явилась теперь, чтобы поддержать его в глухой тоске по ушедшему счастью. При одной мысли о том, как несчастен теперь любимый внук, сердце ее разрывалось болью.
На пороге комнаты Стефы она заморгала от яркого света.
Лившийся из окон свет озарял стены, вдоль которых стояли стройные березки. Потолок был покрыт венками из белых цветов. Огромные цветущие кусты, украшение глембовических оранжерей, привезенные сюда на нескольких возах, украшали теперь комнату, оттеняя своей многокрасочной прелестью белые стволы березок. Повсюду зелень, белые березы, горящие свечи…
Возвышение посередине комнаты тонуло в цветах: белых розах, гвоздиках и лилиях. На ступеньках лежали венки из ландышей и перистых стеблей папоротника.
Огромные пальмы, достигавшие потолка, образовали над возвышением свод. Комната казалась одним букетом, свежим, благоухающим, озаренным сиянием огней, украшением райских врат.
На ступенях, среди роз, стоял на коленях у гроба Вальдемар. Погасшими глазами он всматривался в лицо той, что уснула навечно. Широкие листья пальм заслоняли его.
За ним, в тени берез, сидел в кресле пан Мачей, стояла на коленях пани Рудецкая с детьми и еще несколько человек.
Княгиня вошла в этот грот, словно символ печали. Она остановилась у нижней ступеньки, подняла глаза, губы ее задрожали. Стояла неподвижно, совершенно сломленная в душе, наконец прошептала:
— Какая красивая… она спит… в подвенечном платье… вуали… венке… Боже!
Из глаз ее покатились слезы. Она опустилась на колени, склонила голову.
И тут же раздался душераздирающий крик Люции:
— Стефа! Стефа!
Вальдемар пошевелился, посмотрел на девочку и вновь уронил голову на сплетенные руки.
Люция потеряла сознание. Ее унесли.
Тишина воцарилась в комнате. Сквозь открытую дверь веранды, задернутую белой занавеской, долетел шум деревьев, и где-то далеко кричали дергачи, луговые музыканты.
XXXI
В четверг, после погребения, Ручаев был объят гробовой тишиной.
По комнатам молча скользили угрюмые слуги. В имении никто не работал, жизнь словно покинула фольварк. Заграничные светила медицины уехали сразу после смерти Стефы, уехали после похорон варшавские доктора, но родные майората оставались в Ручаеве.
По-прежнему распевал на березе соловей — прямо под окном опустевшей комнаты покойной, откуда уже вынесли цветы и погасшие заплаканные свечи.
Птичка рассыпала прекрасные и печальные трели, оплакивая светлую весеннюю душу, ушедшую с этой земли так тихо, оплаканную столькими людьми. Соловью вторило тоскливое гудение пчел, и беззвучно порхали разноцветные бабочки.
Собравшиеся на веранде вполголоса переговаривались.
В глубоком кресле сидела старая княгиня, неузнаваемо изменившаяся за несколько печальных дней. Глаза у нее запали, губы были плотно сжаты. Сгорбленный, еще более постаревший пан Мачей грустно смотрел в землю.
Супруги Рудецкие выглядели столь убитыми горем, раздавленными тяжестью утраты, что никто не мог смотреть на них без слез.
На веранде сидели еще пани Идалия, молодая княгиня и Рита. Брохвич, Трестка и врач княгини перешептывались в сторонке.
Люция захворала, она лежала в постели, заплаканная; княгиня и пани Идалия оставались тут из-за нее. Возле них находились обе юных княжны.
Не было и Вальдемара.
На лавочке под переплетением лоз дикого винограда сидел старичок ксендз, крестивший когда-то Стефу, и тихо всхлипывал.
Вильгельм Шелига, получив от сестры телеграмму, махнул рукой на семестровые экзамены и поспешил из Гейдельберга в Ручаев. Он успел к самым похоронам. Теперь он сидел мрачный, с заплаканными глазами.
Княгиня держала в руке стопу анонимных писем. Губы старушки затряслись, когда она проговорила подавленно:
— Самое страшное — эти письма. Если бы она умерла просто от болезни… Но профессора уверяли, что именно эти письма ее убили.
— Даже не письма — одно, последнее, — решительно сказал старый ее врач.
Панна Рита печально кивнула:
— Вот и я говорила то же самое. Она была очень впечатлительна, крайне чувствительна. Для нее эти письма стали ножом в сердце. Это форменное убийство!
Она и до того пережила невероятный душевный разлад, прежде чем согласилась стать женой майората… И столь великую душу убили, посмев писать ей подобные мерзости!
Она хотела продолжать, но не смогла и расплакалась. Трестка коснулся ее руки:
— Дорогая… не нужно… пожалей княгиню и пана Мачея…
Тогда заговорил пан Рудецкий:
— Вся вина лежит на мне, я не уберег ее от этих грязных листков…
— Пан Рудецкий, не умаляйте вины тех, кто все это писал! — сказал Брохвич. — Майорат предостерегал вас, что правда, но и он наверняка не предполагал, что письма будут столь бесстыдно лживы и столь изощренно коварны… Во всем этом, несомненно, участвовало несколько человек. Каждый из нас знает, кто они. Двух мнений тут быть не может… Автор последнего письма оскорбил еще и всех нас, осмелившись подписаться «от имени всех».
Лицо старой княгини стало суровым. Она тихо произнесла:
— Барские? Какая подлость… Стыд! И это — родовитые магнаты! Неужели правда?
— Несомненно! — сказал Трестка. — Последнее письмо несомненно написал Барский: его стиль, его выражения. В других примерно то же самое, только почерк изменен лучше. Увы, ему невозможно даже дать пощечину: он слишком подлый, чтобы покраснеть…
— Однако можно не подавать ему руки, — сурово сказала княгиня.
Все ощутили легкий трепет — на них произвела впечатление решимость, с какой высокомерная дама, родовитейшая шляхтянка из рода магнатов, вынесла приговор столь же родовитому магнату. Присутствующие невольно переглянулись, тень страха мелькнула на их лицах.
— Барскому кто-то помогал, — робко вмешалась пани Идалия.
— Его дочка и Лора Чвилецкая, — иронически усмехнулась панна Рита. — Никакой загадки…
— Пытаясь скомпрометировать невинную девушку, они скомпрометировали сами себя, — столь же непреклонно произнесла княгиня. — Что ж, Лора была выскочкой, ею и осталась. Но Барский скомпрометировал нас всех, и этого я ему не прощу!
— Явных доводов нет… — процедила пани Идалия.
— Идалька! — рыкнул на нее пан Мачей.
Княгиня, не обратив внимания на слова баронессы, продолжала сурово:
— Барский заметал следы, изменяя почерк. Это доказывает, что он боялся не Стефы, а нас. Увы, измененный почерк являет с формальной точки зрения… одним словом, прямых доказательств нет. Иначе ни один аристократ не подал бы ему руки. Боже мой, и это магнат! Какой стыд!
— Но почему она ничего не написала майорату? — сказал Брохвич. — Михоровский немедленно бы все прекратил.
— Я ее понимаю, — сказала панна Рита. — Она не хотела скандала, не хотела ранить его душу. Есть тому и доказательство — письма, которые она ему писала, но не отправила ни одного. Она была великодушна и благородна, но оказалась слишком слаба…
Старичок ксендз покивал головой:
— Уж я-то знаю, какая это была душа, какое сердце! Врожденное благородство было у нее в крови…
Пан Мачей закрыл лицо руками. Он долго молчал, потом заговорил с безмерной тревогой:
— Так должно было случиться… это предначертание…мое прошлое страшно отомстило, отомстила она… Стефания… Ударила в чувствительнейшее место моего сердца, во внука… Я разбил ей жизнь, она забрала счастье моего внука. О! ужасная месть…
Все молчали. Пани Рудецкая, казалось, рыданиями своими спрашивает покойную:
— Это правда? Ты отомстила, забрала ее у нас? Но за что такая кара нам, родителям? За что?
Пан Мачей продолжал:
— Несчастная наша семья, над нею — проклятье. Это рок. Вечно — слезы! Слезы! И этот прелестный ребенок, убитый нами, очередная жертва Михоровских! Вальдемар преодолел все преграды, мы полюбили ее, как дочку, но это не помогло! Все это было лишь началом мести судьбы, направленным на то, чтобы сделать удар еще больнее, сделать месть более жестокой и страшной. Месть настигла в тот день, когда они должны были обвенчаться!
Он глубоко вздохнул. Посмотрел на цветшую близ веранды клумбу, покачал головой:
— Я так ждал свадьбы, жаждал увидеть внука таким счастливым, каким он никогда прежде не был. Представлял их в свадебных нарядах, таких прекрасных, созданных друг для друга. И я увидел Стефу в подвенечном платье… наяву… увидел ее в венке из апельсиновых цветов из глембовических теплиц, в котором она должна была пойти к алтарю, увидел ее в вуали, прекрасную — но в гробу! И увидел его, почти потерявшего сознание, среди цветов, что должны были украсить свадьбу. О Боже! Эту страшную картину я унесу с собой в могилу. Боже! Столько пережить, всю жизнь мучиться печалью — и на закате дней увидеть еще и это! Заслуженная, но ужасная кара… даже не кара, адская месть! А потом… после ее смерти… о Боже, как мне только удалось не пасть бездыханным, когда в руках моего внука я увидел оружие? Господи Иисусе…

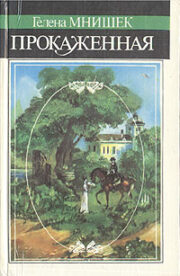
"Прокаженная" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прокаженная". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прокаженная" друзьям в соцсетях.