Она посмотрела на него сквозь слезы:
— Я? Да что я… Боже!
Опустила голову и уронила на плед несколько слезинок, словно немое признание.
Трестка склонился к ней, взял ее руку и сказал удивительно ласково:
— Знаю… уж я знаю, что вас печалит… Дорогая моя панна Рита, я бы многое отдал, чтобы майорат женился прямо сегодня… ибо тогда я мог бы надеяться завоевать вас. Он был тем утесом, о который разбивались все мои надежды — где уж мне было с ним соперничать… Знаете, я бы жизни своей не пожалел, чтобы вы так по мне убивались… но не всем вьпадает великое счастье, и я жажду хоть крупицу счастья, хоть чуточку надежды…
Рита сердито вырвала руку:
— Перестаньте! Не мучайте меня! У меня голова другим занята…
— Майорат?
Она открыто посмотрела ему в глаза:
— Да. Я жажду для него счастья.
— Он его найдет в той, кого любит.
— Но я хочу помочь, чем только смогу, пусть даже ценой собственного счастья, но я должна повлиять на тетю…
Трестка повесил голову.
Молчание длилось долго. Панна Рита смотрела в огонь. Трестка играл пенсне, не спуская глаз с бедного личика панны Шелижанской. Потом тихо спросил:
— Майорат ей уже признался?
— Давно! Еще в Слодковцах. Но она отказала и уехала.
— От… отказала?!
— Что вас так удивило? Отказала, потому что любит его… Бедняжка, как мне ее жаль!
— Будь на ее месте кто-нибудь другой, ее стоило бы жалеть — но она будет майоратшей! Я знаю от Брохвича, Вальди давно ее любит. Я давно чувствовал… но не думал, что события развернутся так быстро и решительно!
— Неужели вы не знаете майората?
— Знаю, но не подозревал его в матримониальных планах. Думал, что это очередной роман, один из многих, быть может, чуточку более пылкий… но не последний…
— Ну и словечки у вас!
— А что? В них много сердца, души, разума, порыва… словом, в его чувствах — весь непреклонный темперамент Вальдемара. Теперь чувства его оказались не только триумфальными, но и матримониальными. Я знал, что Стефа может очаровать, но даже от нее не ожидал такого — препроводить Вальдемара к алтарю! Брохвич меня убеждал, я не верил…
— А где вы видели Брохвича?
— В Берлине. Он мне первый и рассказал обо всем этом скандале.
— Интересно, какого он сам мнения? Он ведь друг майората.
— Он твердит, что Вальдемар хорошо сделал, ломая сословные предрассудки, надеется, что майорат будет счастлив. Брохвич, знаете ли, боготворит Рудецкую.
— А вы?
— Я ее очень люблю и уважаю. Она прекрасно справится с ролью майоратши. Но вот для родословной Михоровских имя ее прозвучит весьма скромно. После Бурбонов, Эстергази, Подгорецких — Рудецкая… звучит чуточку скандально.
Панна Рита понурилась, ей пришло в голову, что и ее имя — Шелига — выглядело бы не менее скандально, попади оно в родословную Михоровских.[94] Проснувшаяся в ней ирония обратилась на Трестку. Рита сказала колко:
— Если вас столь заботят имена, странно, что вы предлагаете мне руку и сердце. Я ведь не более чем Шелижанская, а вы — Трестка из Тресток, урожденный граф. У нас в роду было всего два графа, так что я вам не пара! — и она язвительно рассмеялась.
— Зачем вы так говорите? — печально спросил Трестка.
— Ах, не будем об этом…
Она зажмурила глаза, откинулась на спинку кресла, и сидела так, сама на себя не похожая.
Трестка опустил глаза на ковер и тоже молчал, тихонько посапывая.
В комнату медленно вползали зимние сумерки, серыми щупальцами касаясь голубых обоев, укутывая мглою картины и зеркала, заливая тенями углы. Пламя в камине гасло. Слабенькие голубоватые огоньки едва мерцали меж почерневшими головешками, да раскаленные угли светились багрово. В сыпучем белесоватом пепле посверкивали и гасли золотые мерцающие искры.
Угнетающая тишина чудовищной паутиной повисла над этим прекрасным уголком особняка и, неся с собой тоску, проникала в сердца двух людей, погруженных в мрачные раздумья.
Бледное личико Риты было полузакрыто пушистым пледом. Ее пышные волосы поблескивали в свете уходящего дня. Пламя камина слабыми отблесками играло на золотом гребне в ее волосах.
Две этих фигуры, укутанные серым сумраком, не отрывавшие глаз от серого пепла в камине, могли бы стать воплощением трагедии. Сердцами их овладели печаль и сомнения, паук тоски все сильнее опутывал их своей серой паутиной, высасывая надежду из потаеннейших уголков сердец.
Внезапно оба пошевелились. Панна Рита подняла голову. У дверей раздался какой-то шум. Они взглянули в ту сторону… и вскочили, побуждаемые одной и той же силой.
В дверях стояла княгиня, надменная, бледная, страшная. Она пошатывалась, глаза ее лихорадочно пылали.
— Тетя! — вскрикнула, подбежав к ней, перепуганная Рита.
— Кто еще здесь? — прошептала княгиня.
— Пан Эдвард, тетя.
Трестка низко поклонился:
— Я только сегодня вернулся и спешу засвидетельствовать вам свое искреннее почтение…
— Хорошо… Благодарю вас.. — прошептала княгиня, протягивая ему руку.
Трестка почтительно поцеловал ее.
— Тетя, присядьте… — обеспокоенно предложила панна Рита.
— Нет-нет, я только хочу, чтобы ты отправила гонца… Рита, прошу тебя, сделай это сейчас же… камердинера… или конюха…
— Хорошо, тетя. А куда он должен ехать?
— В… в Глембовичи, — прошептала пани Подгорецкая.
Панна Рита и Трестка молниеносно переглянулись.
— Он должен отвезти письмо? — спросила Рита.
— Нет… пусть попросит Вальдемара… чтобы он сегодня же приехал сюда… непременно…
Панна Рита выбежала из комнаты.
— Княгиня, не приказать ли зажечь свет? — спросил Трестка.
— Нет, я пойду к себе… мне нездоровится…
— Я вас провожу. Она покачала головой:
— Нет, спасибо, я пойду сама.
И медленно, величественно вышла из комнаты.
Оставшись один, Трестка подошел к камину и стальными щипцами разгреб пепел, подняв сноп искр. Пробормотал под нос:
— Крах или счастливые финал? Вскоре вернулась панна Рита:
— А где тетя?
— Ушла к себе. Отправили человека в Глембовичи?
— Поехал мой кучер. Он быстро обернется.
— Интересно, что будет? Панна Рита была взволнованна:
— Не знаю, не знаю… Как бы там ни было, дело закончится. Княгиня выглядит странно… Я пойду к ней.
— Оставьте ее в покое. Она наверняка хочет побыть одна до его приезда, в особенности если хочет покончить дело решительно. Весьма похоже на то…
— Боже! Лишь бы Вальдемар был дома! Может, он еще не уехал…
— А куда он должен был ехать?
— Люция говорила, что он собирался в Ручаев.
— Куда?!
— К родителям Стефы, просить ее руки.
— Авантюра! — буркнул Трестка.
— Боже, хоть бы он был дома!
— А какого мнения обо всем этом пани Эльзоновская и Люция?
— Люция всем этим очень удивлена, но любит Стефу и потому рада. А Идалька… сердится, но уже ни слова не скажет против, потому что пан Мачей полностью на стороне Вальдемара. Стефа напоминает ему ту. Вы знаете историю бабушки Стефы, покойной Рембовской?
— Та, что была невестой пана Мачея? Брохвич мне рассказывал. Поистине случай необычайный, удивительное совпадение! Но настоящее расплатится за прошлое…
— Кто знает! — вздохнула панна Рита, вновь погружаясь в задумчивость.
XV
Вечер тянулся долго, казался бесконечным. Панна Рита металась меж комнатой княгини и своей, где сидел Трестка. Тихий шум ветра в парке, малейший скрип снега у крыльца — все заставляло насторожиться особняк. Майората ждали с нетерпением, но проходили часы, а его все не было…
Старые часы в столовой отбивали четверти часа, вызванивали мелодии каждый час. Слуги бродили по коридорам, таинственно перешептывались. Раскрасневшаяся панна Рита то и дело выглядывала в окно. Валил снегопад, словно хотел покрыть своим мягким белым, холодным плащом все Обронное с его парком, особняком и горсточкой печальных, угнетаемых ожиданием людей.
В комнату, где сидели Рита и Трестка, вновь вошла княгиня:
— Вальдемара все нет?
— Нет, тетя, но вот-вот приедет, лучше бы вам лечь…
— Не могу лежать… На дворе метет, правда?
— Да, тетя.
Княгиня уселась на канапе, переплела пальцы на коленях и застыла, понурив голову.
Взгляд ее блуждал по комнате, губы беззвучно шептали молитву. Она никого не замечала вокруг.
Панна Рита не могла найти себе места, не знала, что ей делать. Трестка с таким вниманием разглядывал цветы в вазах, словно видел их впервые в жизни. Временами он неуверенно посматривал на княгиню. Наконец, укрываясь за пышным букетом, черкнул что-то в блокноте и сунул вырванную страничку в руку проходящей мимо Рите. Она прочитала: «Этюд к скульптуре: мать взбунтовавшихся Гракхов».[95]
Рита, пожав плечами, уничтожающе глянула на него.
Шли минуты. Вдруг дверь отворилась, вбежала служанка, за ней ворвался лакей. Не замечая княгини, оба наперебой доложили Рите:
— Нету пана майората в Глембовичах! Кучер вернулся! Говорит, пан уже уехал на станцию…
Пораженная княгиня вскочила:
— Что? Уехал?!
Панна Рита и Трестка ужаснулись, увидя ее лицо. Побледневшие служанка и лакей попятились…
— Когда он уехал? — вскрикнула княгиня.
— Пани княгиня… кучер говорит, что еще днем… — пробормотал лакей.
— Боже! Боже! — воскликнула княгиня. Рита обернулась к Трестке:
— Пошлите людей на станции Рудову и Тренбу. Он на какой-то из двух… Скорее!
Трестка выбежал из комнаты, увлекая за собой слуг.
— Несчастье! Какое несчастье! — стонала княгиня. — Уехал! Уехал к ней! Отказался от меня! Боже, я во всем виновата…
Панна Рита с пани Добжинськой едва успокоили ее. Однако старушка впала в оцепенение, сидела, как мертвая. Она молча, без сопротивления позволила снять с себя платье, но в постель ни за что не хотела ложиться. Странные искры зажигались в ее черных глазах, губы кривились от боли, лицо конвульсивно подрагивало. Она дала знак панне Рите и Добжиньской, чтобы они оставили ее.

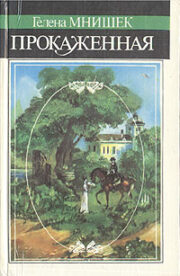
"Прокаженная" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прокаженная". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прокаженная" друзьям в соцсетях.