— Миссис Чен так и сказала. Но она еще сказала, что рассматривались бы и твои смягчающие обстоятельства.
Интересно, как долго смерть папы будет считаться моим «смягчающим обстоятельством». Меня осеняет, что ему бы понравилось слово «смягчающий». «Возьми себе на заметку», — сказал бы он мне. Хорошее слово для экзаменов.
— Милая, я хочу поговорить с тобой о твоем гневе. — Она внимательно наблюдает за моей реакцией. — Я хочу поговорить о папе. Хорошо?
Мои глаза начинают наполняться слезами, но, тем не менее, я киваю.
— Ты так злишься все это время, — говорит она: — И мне интересно, понимаешь ли ты, почему. — Она ждет от меня ответа, но вместо этого я откусываю кусок торта. — Я думаю, ты злишься по той же причине, что и я. Потому что папы больше нет.
Не похоже, что это правильно — злиться на папу за то, что его убили, особенно после того, как я наехала на Питера за то, что он злится. Но это легко могло бы объяснить множество вещей.
— И я думаю, что ты злишься на меня тоже.
Насчет этого она тоже права.
— Когда миссис Чен рассказала мне о ссоре с Региной и о надписях, которые кто-то делал о тебе, я поняла, что меня не было рядом. Я думала, что даю тебе пространство, чтобы справиться с твоим горем, но на самом деле, мне самой нужно было пространство, чтобы справиться с моим. И я оставила тебя совсем одну. Я очень сожалею об этом.
Теперь слезы начали капать. Мама потянулась через стол и вытерла их с печальной улыбкой.
— Второе, что я должна тебе сказать — почему это случилось. Правда, в том, что я чувствую вину из-за смерти папы. Если бы я так сильно не переживала из-за денег после того, как он потерял работу, он бы никогда не пошел служить по контракту. И я думаю, что должна извиниться перед тобой за это тоже.
Сейчас я действительно сильно расплакалась. Она поднимается, встает сзади моего стула и обнимает меня.
— Я знаю, что тебе, возможно, тяжело это слышать. И сегодня мы не будем больше это обсуждать. Но я собираюсь начать с кем-то говорить об этом — с психологом — и я бы хотела, чтобы ты пошла к нему вместе со мной. Ты подумаешь над этим?
Меня бесит идея о посещении психотерапевта — как будто я одна из тех ненормальных детей, которых моя мама видит каждый день.
Но что, если я и есть одна из тех ненормальных детей?
— Да, — говорю я.
— Хорошо. Спасибо.
Звонит телефон на стене. Мама оглядывается, чтобы увидеть номер звонящего, продолжая меня обнимать.
— Это Питер, милая, наверно, звонит, чтобы тебя поздравить. Хочешь с ним поговорить?
— Попозже. — Я хлюпаю носом.
Я сижу, слушаю монотонный телефонный звонок и чувствую мамины объятия — впервые за долгое время. Могу сказать, что что-то изменилось, и это хорошо и плохо одновременно. Мы двигаемся дальше, и мама, и я, но чтобы двигаться дальше, мы должны оставить папу в прошлом. Но я ненавижу это. Я хочу впиться в землю и отказаться двигаться, но не могу. Я слишком устала бороться.
Когда у моих мамы и папы было первое свидание, он пригласил ее в Метрополитан Опера на «Богему», и она думала, что это самая романтическая вещь, которую кто-либо для нее делал. Это до сих пор ее любимая опера, и она хотела сходить на нее со мной, поэтому купила билеты на мой День Рождения. Честно говоря, я совсем не люблю оперу — когда они с папой слушали ее дома, я выходила из комнаты, потому что голоса сопрано всегда казались мне визгом — но я еще никогда не была в опере, а это может быть круто.
В субботу днем мы садимся в машину и едем в город. Чувствую себя виноватой, когда мы проезжаем «Юнион Хай» — я должна сегодня посмотреть на Роберта в «Макбете», если надеюсь когда-либо снова с ним поговорить. Но я счастлива, что у меня есть освобождение от школы до понедельника. И я все равно понятия не имею, что бы я ему сказала.
Через полтора часа мы едем через Верхний Вест-Сайд в сторону Линкольн-центра и Мета. Я разглядываю огромные многоэтажные дома и мне интересно, каково жить в Нью-Йорке. В нескольких кварталах я вижу все виды людей, которые только можно вообразить — всех возрастов, всех цветов, всех типажей. Вижу двух парней, которые держатся за руки и говорят со старушкой, гуляющей с пуделем. Вижу нескольких маленьких детей, гоняющих на самокатах по тротуару, пока их родители несут пакеты из продуктового магазина и стараются оградить их от группы подростков, которые толкают друг друга перед обувным магазином.
Вижу полицейских на углах улиц, толпы людей, поднимающиеся над землей и вытекающие из подземных переходов на тротуары, шаткие палатки, где продаются сотни ярких цветов в огромных белых ведрах, черный полиэтиленовый пакет, который ветром сдувает с мусорки и уносит на автобусную остановку, где стоит парень и чуть не пропускает автобус, который он ждал, потому что набирает смски как ненормальный с таким видом, словно его жизнь зависит от отправки этих сообщений.
И вдруг что-то в моей груди немного расслабляется, в первый раз с прошлого лета. Жизнь движется дальше за пределами Юнион. Там целый мир.
Ставим машину в многоэтажном гараже и переходим безумно оживленный перекресток, где сталкивается целая куча улиц, а такси мчатся на желтый свет на скорости около девяноста миль в час. И вот он — Линкольн-центр. Это комплекс из нескольких огромных зданий с красивым фонтаном во внутреннем дворе в центре. За фонтаном находится Мет, с хрустальными люстрами, которые видны через массивные окна, которые выглядят так, словно занимают десять этажей. Видно, как публика поднимается по роскошной лестнице, покрытой красным бархатом, и меня застает врасплох непривычное чувство искреннего восхищения. Мама улыбается, когда мы ускоряем шаг, проходя мимо фонтана — струи которого поднимаются до невозможности высоко в своем отрежиссированном танце — и спешим добраться до наших мест, пока не началась опера.
— Сюда, сюда, — зовет швейцар, а сотни людей проталкиваются вперед. Мы протягиваем ему билеты, которые он считывает с помощью устройства, похожего на лучевую пушку, а затем мы устремляемся вверх по лестнице со всеми остальными. Я берусь за блестящие медные перила, когда мы проходим мимо этажа с рестораном, где публика заканчивает десерт и пьет кофе, словно у них полно времени, хоть даже и раздается звонок, означающий, что представление скоро начнется. Некоторые невероятно вычурно наряжены — смокинги и вечерние платья, другие в джинсах. Мы с мамой где-то посередине.
Какая-то леди помогает нам найти наши места в переднем ряду балкона под названием Бельэтаж, и нам приходится протискиваться мимо женщины, закутанной в меховую шубу, она награждает нас раздраженным взглядом и не встает, чтобы дать нам пройти. Пытаюсь понять, в чем ее проблема, но едва мы садимся, свет начинает гаснуть, а хрустальные люстры, висящие по всему залу, медленно поднимаются к потолку, словно красивые снежинки в обратной перемотке. Одна из них движется совсем рядом со мной — я могла бы дотянуться и потрогать ее, если бы захотела, чтобы меня выгнали или, что более вероятно, арестовали. Открывается тяжелый занавес из золотистого бархата, оркестр начинает играть, а на сцене оказывается целая комната с двумя парнями в ней — один рисует, другой пишет. Глазам своим не верю.
Не то, чтобы я никогда не бывала в театре. На самом деле, я выросла, смотря все виды спектаклей со своей семьей. Но это огромнейшая сцена, которую я когда-либо видела — она выглядит так, будто способна вместить весь город. И потом так и оказывается. Второе действие происходит на улицах Парижа, где есть рынки, толпы людей, кафе и даже кони — настоящие кони на сцене везут экипажи, а люди вокруг них поют во весь голос.
Поют красиво — для меня это звучит совсем не так, как по радио или в наушниках дома. И в Мет есть небольшие экранчики перед каждым креслом, на которых пишут по-английски то, что певцы произносят по-итальянски, поэтому ты точно знаешь, что происходит. Оттуда я поняла, что эти творческие ребята живут в комнате на верхнем этаже и не могут заплатить за жилье. Сейчас канун Рождества, и они замерзли, но у них нет дров для растопки, поэтому, чтобы согреться, они начинают сжигать страницы произведения, которое написал Родольфо, писатель. Он не выглядит слишком расстроенным из-за этого, что смешит публику.
Когда художник идет в кафе выпить с друзьями и оставляет Родольфо заканчивать работу, в дверь стучит красивая девушка по имени Мими. С Мими что-то не так — она болеет, постоянно кашляет и у нее кружится голова. Однако Родольфо быстро в нее влюбляется. А потом Мими поет невероятно красивую песню — полагаю, это называется ария — о том, что ее зовут Мими, она зарабатывает на жизнь вышивкой цветов и ей жаль, что она его побеспокоила.
Пока я смотрю оперу, время летит так, будто его не существует. Во время второго антракта — после третьего действия, в котором на сцене идет настоящий снег — мама ведет меня в бар в фойе и заказывает один бокал шампанского на двоих. Она спрашивает, нравится ли мне опера, но я не могу подобрать слова, чтобы рассказать ей, что я чувствую, наблюдая за игрой этих исполнителей. У них настолько разные голоса, но все они такие сильные, такие мощные. И они действительно играют — а не просто стоят и поют перед публикой, как мне всегда казалось, когда я видела оперу по телевизору.
Раздается звонок перед последним действием. За занавесом снова оказывается комната, и по какой-то причине я понимаю, что дела пойдут совсем нехорошо — творческим ребятам было настолько весело, что должно случиться что-то плохое. В тот момент, когда парни бегают по комнате, притворяясь, будто сражаются на мечах, появляется подруга Мими и говорит, что Мими слишком больна, чтобы подняться. Они помогают ей зайти в комнату, укладывают ее на кровать. Они выходят на улицу и продают дорогие для них вещи, чтобы вызвать доктора и купить лекарство. Но я понимаю, что это уже не потребуется, и я права — Мими умирает прямо на сцене.

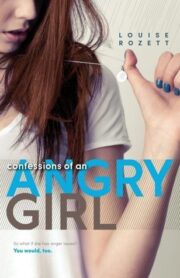
"Признания разгневанной девушки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Признания разгневанной девушки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Признания разгневанной девушки" друзьям в соцсетях.