— Тогда я возьму билет первого класса в один конец вместо обратного билета второго класса, будьте так любезны, — заявила она с непривычным размахом.
По опыту Роза знала, что на железнодорожных станциях носильщика обычно не дозовешься, они там как редкие птицы, и уже собралась сама волочить тяжелые чемоданы на указанную дальнюю платформу, когда неожиданно перед ней возник непрошенный член этого невидимого братства и, прежде чем она успела опомниться, помог ей сесть в вагон первого класса. С проворством он загрузил ее чемоданы на багажные полки, а его глаза неотрывно и с уважением глядели на ее грудь, пока она рылась в сумочке в поисках чаевых.
В купе находился еще один человек, который, судя по тому, как он слегка ощетинился, явно надеялся, что будет тут в одиночестве. Роза, со своей стороны, в обычных условиях тоже предпочла бы сидеть в одиночестве, либо в вагоне, где едут другие женщины. Однако носильщик выбрал за нее, и сейчас трудно было что-то поделать. Внезапно Роза подумала, не начнет ли и этот мужчина тоже пялить на нее глаза, и нерешительно прикинула, не надеть ли ей жакет, но потом решила остаться так, поскольку день был действительно жарким. Да и вообще, отругала она себя, что за абсурдные опасения, она положительно становится самонадеянной.
Роза отличалась почти рефлекторной привычкой пристально разглядывать людей, когда думала, что за ней никто не наблюдает, аккумулируя в подсознании зрительные образы, подобно тому как писатель заносит свои впечатления в записную книжку. Ее вынужденный попутчик сохранял свою негалантную позу несколько наигранной дремоты, что в железнодорожном купе было равнозначным просьбе не беспокоить. Ее глаза с любопытством шарили по худым, загорелым чертам. Это необычное лицо, аскетичное, почти средневековое, с классически правильным носом и твердым, несколько жестким ртом, слегка изможденное и некогда чисто выбритое, уже успело обрасти щетиной, словно он не спал всю ночь. Светлые, слегка выгоревшие на солнце волосы с легким оттенком рыжины завивались над воротом дорогостоящего на вид, но довольно мятого костюма «сафари». Длинные ноги по диагонали протянулись через купе. В особенности поражали пальцы рук — длинные, сильные, заостренные на кончиках, они небрежно держали номер «Таймс».
В его дремоте сквозило что-то особенное, слегка оборонительная поза и тень враждебности на лице напоминали Розе картинку из книги, подаренной ей Энид, когда она была еще ребенком, где описывались жития святых великомучеников. Одна из них, она не могла припомнить, какая именно, изображала мучения святого в руках центуриона — глаза на его гордом, суровом лице закрыты, лицо выражает пренебрежение и отказ подчиняться.
Глаза попутчика неожиданно распахнулись, словно он почувствовал на себе ее взгляд, и она начала шарить в портпледе Филиппы, отыскивая книгу Алека Рассела, по наивности не замечая, когда наклонилась вперед, чтобы расстегнуть молнию, что предоставляет взору этого святого хорошее зрелище на глубокие тени, притаившиеся в вырезе ее блузки.
Она положила книгу на колени, нашла место, которое отметила накануне, и начала читать, чувствуя, как ей недостает очков, которые Филиппа, верная своему обещанию, поместила предыдущей ночью в надежное место. Незнакомец, казалось, теперь окончательно проснулся и разглядывал ее с ленивым интересом, однако у нее не было желания проверять новоприобретенную привлекательность в железнодорожном купе, так что она подчеркнуто игнорировала его. Но что ей действительно хотелось сделать, так это выудить свой блокнот для эскизов и запечатлеть эти таинственные черты на бумаге, однако, за отсутствием храбрости, она уговорила себя, что для ее зудящих рук не будет недостатка в более податливых объектах, когда она прибудет в Уэстли.
Ее попутчик извлек очки в металлической оправе и начал пристально изучать газету. Она украдкой бросила еще один взгляд, гадая, как часто это делала по поводу своих попутчиков, чем бы он мог заниматься в жизни. Он выглядел как театральный критик, решила она, либо как преподаватель из университета; выражение его лица, когда он проснулся, носило печать холодного превосходства и бессильной скуки, вызванной, вне всяких сомнений, обитанием в мире, полном простых смертных. Она все разглядывала его, пока, неожиданно, он не поймал снова ее взгляд и не одарил ее ледяной улыбкой, в которой ощущался намек на угрозу, словно он находил ее присутствие раздражающим, однако считал себя слишком цивилизованным, чтобы что-либо предпринять.
Новую Розу задел каким-то образом его покровительственный взгляд. Абсолютно вопреки воле прежней Розы и фактически в прямой противоположности ее инструкциям, Роза номер два обнаружила, что говорит сладким голосом, почти кокетливо (бессознательно используя Филиппу в качестве образца).
— Я понимаю, что это ужасная наглость с моей стороны, однако, поскольку поезд идет два часа безостановочно и мы поневоле оказались попутчиками, составит ли для вас большое беспокойство, если я попытаюсь набросать ваш портрет?
Его глаза широко раскрылись, и он загадочно уставился на нее поверх очков. Глаза, хорошо видные, были холодны как лед и приковывали к себе взгляд своей голубизной.
— Нарисовать меня? Вы что, странствующий эквивалент художника, рисующего на мостовой? Я полагаю, что не смогу найти себя морально обязанным приобрести конечный продукт.
Голос казался холодным, с прекрасными модуляциями и вибрирующими авторитарными нотками, которые наполняли все купе и грозили вогнать ее в смущение и застенчивость.
— Разумеется, нет, — ответила она с восхитительной твердостью, желая изобразить легкое замешательство и не пытаясь состязаться с его стилизованным высокомерием. — Я всего лишь любитель, старающийся всюду и постоянно немного тренироваться. Вам даже не нужно будет глядеть на рисунок, не говоря уж о том, чтобы покупать его.
— Ну, раз уж вы находите книгу скучной и вам нечего больше делать, я не могу препятствовать, — ответил он сухо и с этого момента перестал уделять ей даже минимальное внимание.
Роза была уязвлена, но, с другой стороны, она ведь сама некоторым образом просила об этом. По крайней мере, она получила то, чего добивалась, и могла теперь беспрепятственно и открыто разглядывать его, что и стала делать, прищуривая без особой на то необходимости глаза и открыто вглядываясь с непохожей на прежнюю Розу претензией, чтобы досадить ему. Однако он просто сидел напротив, со всей надменностью Гулливера, осаждаемого лилипутом, которого он может раздавить без малейших усилий двумя пальцами.
После этого начального вступления Роза серьезно углубилась в свою работу, не такую уж и простую в движущемся поезде. Ее особый дар, который так хорошо видел Артур, заключался не только в простой способности передавать сходство на бумаге. Этим даром наделены многие. Роза же обладала, по мнению Артура, неразвитым и неиспытанным даром, данным лишь немногим — наделять получившийся образ собственными мыслями, чувствами, заглядывать в «душу» изображаемого предмета. Собственная, частная теория Артура была такова, что подавление, которое Роза выстрадала, хотя и не подозревала об этом, в течение ряда лет, нашло свой выход в ее творчестве. Ее собственные, запертые на замок эмоции накапливались во внутреннем, творческом хранилище, которое начинало приносить художественные плоды.
У Розы возникли серьезные затруднения с ее рисунком. В нем присутствовал сарказм, приукрашенный довольно неоправданной примесью садизма, пренебрежение в глазах, надменность профиля, но чего не хватало, так это того качества, которое она подметила, пока он дремал или притворялся спящим, — да, того неуловимого намека на ранимость, который вызвал в ее памяти образ святого мученика. Она никак не могла, как ни старалась, запечатлеть это, и в результате портрет стал казаться ей неудачным.
Роза никогда еще не встречала человека, которого бы не разбирало любопытство увидеть свое изображение. Большинство позирующих мешали рисовать, пытаясь следить за прогрессом в ее работе. И это было совершенно естественным, и нужно было либо быть совершенно лишенным суетности, либо обладать непомерным, чудовищным эгоцентризмом, чтобы демонстрировать такое тотальное безразличие к готовому рисунку. И вот, чтобы наказать высокомерного незнакомца, Роза устроила большой спектакль, когда они приближались к Эксетеру, складывая блокнот и рисовальные принадлежности и не давая ему возможности взглянуть на изображение. А тот к концу поездки вытащил стопку бумаг из кейса и делал заметки на полях авторучкой с золотым пером. Казалось, он не замечал ни прогресса, ни завершения ее работы, и она угрюмо возобновила свое знакомство с биографией Алека Рассела.
К ее удивлению, когда поезд прибыл на станцию, ее спутник поднялся на ноги и молча снял ее чемодан вниз, за что она была вынуждена поблагодарить его. Стоя в вынужденной близости от него, пока поезд со скрежетом останавливался, она увидела, какой он высокий, — а ведь Роза не привыкла чувствовать себя маленькой, — и ту непринужденную грацию, с которой он орудовал тяжелыми чемоданами. И она поймала себя на мысли о том, ощущает ли он аромат духов «Калеш», принадлежащих Филиппе, которыми она сегодня утром так щедро себя полила. Он открыл дверь купе, выгрузил багаж и помог ей выйти, продемонстрировав при этом стерильную вежливость, а его пальцы показались сухими и твердыми на ее обнаженной руке. Затем, сдержанно кивнув ей, он затерялся в толпе.
Глава третья
Ну вот, еще одна экстравагантная поездка на такси, думала Роза, впитывая в себя насыщенный солнцем пейзаж. Стоял великолепный, образцовый день английского лета, она вдыхала чистый деревенский воздух, глядела на проносившийся мимо девонский ландшафт с обостренным чувством ожидания чего-то, сидя на заднем сиденье машины, а потом достала карманное зеркальце, чтобы еще раз убедиться, что она все еще пребывает в своем новом, непривычном маскараде на пороге большого приключения, которое вот-вот развернется всерьез.

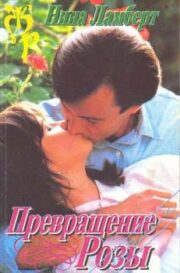
"Превращение Розы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Превращение Розы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Превращение Розы" друзьям в соцсетях.