Сначала ты захотел преобразовать нравы в том монастыре, куда попал. В Сен-Дени ты не упускал случая, публично или наедине, бросать упреки твоим братьям и даже аббату в том, что ты почитал дурным поведением. Твоя критика вывела их из себя. Поскольку с тех пор, как ты вылечился, твои клирики и бывшие ученики не переставали осаждать тебя мольбами возобновить лекции, по которым они тосковали, монахи усмотрели в этом возможность избавиться от досаждавшего им цензора нравов. Они посоветовали тебя внять мольбам твоих студентов. Ты согласился вернуться к чтению лекций. С этой целью ты обосновался в монашеской общине неподалеку от Провена и открыл там школу, где принялся вновь преподавать философию и теологию.
Твой успех был огромен. Его отзвуки докатились и до меня. Я слышала, как все восхваляют твой хорошо известный мне дар оратора, философа и педагога. Значит твое увечье не отвратило от тебя тех, кто ценил твое учение! Твое величие сохранило весь свой блеск. Зачем тогда было становиться монахом? Зачем отказываться от частной жизни? Зачем жертвовать мной?
В уединении своей кельи, пока мои товарки спали, я ночи напролет задавала себе вопросы, на которые никто не отвечал. С лицом, еще изборожденным слезами, я возвращалась с наступлением дня к своей роли, к своим обязанностям.
Однако за слухами о твоих победах вскоре последовали слухи о ссорах. Все было так, как бывало до нашей любви; так будет до конца твоей жизни. Твоей судьбой было дышать среди гроз и не раз быть поражаемым молнией!
В самом деле, твои лекции очень быстро стяжали такую славу, что ученики других школ спешили покинуть собственных учителей, переходя под твое наставничество. Конечно, эти массовые переходы возбудили ревность и недружелюбие тех, кого, без особых церемоний, ради тебя оставляли. В их числе оказались и двое твоих бывших соучеников и извечных соперников: Альберик Реймсский и Лотульф Ломбардский. Они всеми средствами добивались, чтобы тебе запретили осуществлять дело, где ты блистал безраздельно. Ради этого они настраивали против тебя знакомых епископов, архиепископов и аббатов.
Между тем ученики попросили тебя написать трактат о Божественном Единстве и Троице. Ты сделал это со свойственным тебе блеском, ясностью и смелостью. Увы! Враги воспользовались успехом твоей книги, чтобы попытаться нанести тебе публичное оскорбление. Альберик и Лотульф, державшие школу в Реймсе, убедили своего архиепископа созвать в Суассоне малый собор под председательством Конана, папского легата во Франции. И речь шла не больше не меньше как об обвинении твоего трактата в ереси!
Тебе велели представить свою знаменитую работу на рассмотрение этой сведущей ассамблеи. Ловко возбужденная кампания клеветы заранее настроила против тебя и город и духовенство. Рассказывали даже, к моему великому испугу, что толпа едва не побила тебя камнями при твоем въезде в Суассон.
Беря дерзостью, ты немедля отправился к легату, вручил ему свою книгу и объявил, что готов исправить все, что окажется противным догматам. К несчастью, этот прелат, по натуре трусливый, приказал тебе передать свой труд архиепископу, за которым и скрывались оба клеветника. Напрасно они искали — в написанных тобой строках они не нашли ничего, что позволило бы осудить тебя. Легко вообразить их досаду. Взбешенные своим поражением, они отложили дело к концу собора.
Тем временем, безмерно расточая себя, ты старался изложить смысл своих писаний каждому встречному. Твоя убежденность и очевидная добрая воля без труда рассеяли предубеждение против тебя. Вскоре твои слушатели уже были убеждены в совершенной правоверности обвиненного труда. Общественное мнение переметнулось. Под воздействием твоего личного обаяния все начали думать, что ты мог быть и прав.
Я узнала об этом и возрадовалась. Твои враги, увы, узнали об этом тоже. Их ожесточение от этого лишь удвоилось. Припертый к стене, Альберик имел бесстыдство лично прийти к тебе. Он попытался завлечь тебя в ловушки диалектики, потерпел поражение и удалился вне себя от ярости, с угрозой на устах.
В последний день собора ты уже думал, что твое дело выиграно. Твои хулители по-прежнему не находили, в чем тебя упрекнуть. Жоффруа, святой епископ Шартрский, говорил в твою пользу. Он предложил, чтобы тебя немедленно публично допросили. Ты мог бы таким образом защищаться с полной свободой. Но твои враги отказались от предложения Жоффруа под тем предлогом, что ты ловок в споре и умеешь привлекать умы на свою сторону. Тогда епископ Шартрский объявил, что вопрос требует более глубокого изучения. Ему казалось, будет лучше, если ты вернешься в Сен-Дени, пока будут собраны более сведущие люди, чтобы не спеша исследовать твой трактат. Легат дал согласие на это предложение и удалился служить мессу.
Такое совершенно не устраивало Альберика и Лотульфа. Они тотчас поняли, что если дело будет рассматриваться вдали от их епархии, их хитрости рискуют закончиться ничем. Подгоняемые недостатком времени, они бросились к архиепископу, убеждая его, будто передача дела в иной суд будет для него оскорблением. Кроме того, они твердили, что отпускать тебя опасно. Едва убедив его, они вернулись к легату и без труда заставили его переменить мнение. Это были два хитрых лиса, а их собеседник был гораздо менее хитроумен! Вопреки собственной воле он был вынужден осудить твою книгу без изучения, на том недоказуемом основании, что ты осмелился читать ее перед толпой и разрешал переписывать без дозволения папы или Церкви!
Легат сдался еще в одном — пообещал приговорить твой трактат к публичному сожжению, и как можно скорее. Он осудил тебя на вечное заточение в какой-то малоизвестный монастырь.
Перед лицом такого двуличия оставалось только смириться. Именно это и посоветовал тебе сделать Жоффруа Шартрский: без жалоб принять приговор и подчиниться. Что еще ты мог сделать? Решение столь высокопоставленного лица не подлежит обсуждению. Добрый епископ, удрученный не меньше тебя, пытался тебя ободрить, уверяя, что несправедливость, жертвой которой ты стал, привлечет к тебе симпатии многих. Он думал также, что легат, действовавший под давлением, поспешит вернуть тебе свободу, едва покинет Суассон.
Вот так, Пьер, тебе пришлось претерпеть оскорбление, сколь несправедливое, столь и мучительное, в то самое время как вновь начинала сиять твоя слава! За судом над тобой я следила издали. Всей душой я разделяла твои страдания. Я понимала, какой мукой для твоей гордости должно было стать это осуждение со стороны твоих собратьев. Всеми силами жаждала я прийти тебе на помощь в этой невзгоде. Увы! Я была навсегда устранена с твоего пути!
Рассказ о последнем заседании собора причинил мне много боли. Хотя меня там не было, мое сердце пребывало в такой близости к твоему, что каждая рана, поражавшая тебя, была и моей раной.
Я узнала, что, вызванный в зал собрания, ты тотчас явился. Не дав тебе произнести ни слова в свою защиту, без всяких доказательств, тебе приказали собственными руками бросить свою рукопись в огонь. Трагическая тишина повисла над собранием в то время, как ты жег свое творение. Несмотря на смелое вмешательство одного из твоих почитателей, пощады не было…
После аутодафе, когда ты хотел изложить свою веру согласно своим методам, твои противники вскричали, что это бесполезно и тебе достаточно прочесть Символ веры святого Афанасия. В насмешку они велели доставить тебе его текст, будто ты его не знал. Такое утонченное недружелюбие и несправедливость сломили твое сопротивление. Прерывающимся от рыданий голосом ты прочел «Верую». Затем тебя, будто преступника тюремщику, передали в руки настоятеля аббатства Сан-Медар, что рядом с Суассоном. Тотчас после этого собор был распущен.
Слух об этом отвратительном приговоре вызвал всеобщее негодование. Помню, с какой горячностью мои посетители говорили мне об этом деле. Некоторые считали тебя мучеником, другие довольствовались тем, что осуждали твоих судей. Все жалели о случившемся.
Я же в тайне своей нежности знала, что именно жалость была бы тебе мучительней всего на свете. Я тревожилась. Как перенесешь ты этот новый удар судьбы? Клеймо, которым хотели запятнать твое имя, должно было жечь тебя позором.
Помимо твоего молчания мне надлежало переносить теперь и твою боль!
Однако шум, наделанный приговором, не стихал. Члены синода перекладывали ответственность друг на друга, твои обвинители уверяли, что их вины в том нет, а легат громко жаловался на враждебность к тебе нашего духовенства. Тронутый раскаянием, он решил наконец исправить несправедливость, сообщником которой стал. Он позволил тебе покинуть аббатство Сен-Медар и вернуться в Сен-Дени.
На некоторое время судьба, казалось, смягчилась к тебе. О тебе говорили меньше. Скандал постепенно стихал.
Снова я могла думать о тебе, не испытывая иных тревог, кроме своих собственных.
Затишье длилось недолго. Оно не могло долго длиться!
Ты сделал открытие, установив, откуда родом святой покровитель твоего аббатства Дионисий Ареопагит, и это вызвало новые споры, противопоставившие тебя собратьям по монастырю. Все они восстали против тебя, обвиняя в принижении славы монастыря и даже предательстве Франции, ибо, по их мнению, ты оболгал память святого, столь чтимого всеми ее обитателями. Аббат, которого ты не любил и который платил тебе тем же, воспользовался этим конфликтом, чтобы перед лицом всей братии, собравшейся на капитульный собор, угрожать передачей твоего дела о покушении на славу королевства самому королю!
В своей враждебности к тебе он дошел до того, что в ожидании возможности предать тебя королевскому правосудию велел запереть тебя к сторожить как опасного преступника.
Конечно, наш король никогда не покарал бы тебя за такого рода провинность, но ненависть аббата не знала меры.
Узнав об этом событии, я не удивилась. Только опечалилась. Можно было это предвидеть, ибо одно твое присутствие повсюду приносило с собой раскол. Ты был предназначен становиться закваской в тесте — незаменимой, но без конца попираемой.

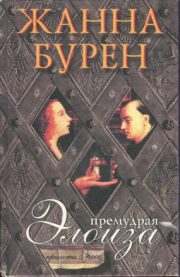
"Премудрая Элоиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Премудрая Элоиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Премудрая Элоиза" друзьям в соцсетях.