— Я понимаю, что вы имеете в виду.
Не было никакой нужды облекать в слова и этот яркий свет, и синеву, и прозрачное марево, стоящее над островом, — все это ощущалось так остро и было вместе с тем так безмятежно, что Марине казалось: она сейчас или взлетит в небо, или нырнет, как рыба, в море и растворится в них, станет их частью.
Здесь, на Капри, сознание ее парило совершенно свободно от тела, и не было больше ни забот, ни страха — одна только красота.
Они замолчали, но это было какое-то очень общее молчание, и Марине даже казалось, будто Уинстон почти прикасается к ней.
Наконец Уинстон нарушил тишину:
— Не знаю, как вы, а я хочу есть. Я завтракал очень рано.
— Я тоже собиралась рано позавтракать, — виновато ответила Марина, — и так ругала себя за то, что проспала!
— Давайте забудем об этом, — весело сказал Уинстон. — Почему бы нам не открыть корзины и не посмотреть, что там имеется из съестного?
Марина последовала его совету, и вдруг раздался ее смех.
— Да тут еды на целый полк солдат! — воскликнула она.
— Больше всего на свете итальянцы любят устраивать пикники, — ответил Уинстон. Он уже открывал бутылку золотистого вина. — Конечно, оно должно быть немного похолоднее, — определил он. — Единственная вещь, которой иногда не бывает на Капри, — это вода. Но странным образом, а может быть, благодаря божественному провидению, виноградники на острове, а также апельсиновые рощи и сады дают большие урожаи. Меня уверяли, что здесь самое большое разнообразие цветов и кустарников во всей Италии.
Он налил вино в два стакана и протянул один Марине.
— Пейте его медленно, — сказал он, — и воображайте, что это нектар. Хотя у богов и более тонкий вкус, я думаю, это вино совсем неплохое.
Марина последовала его совету.
— Оно превосходное! — воскликнула она.
— Я тоже так считаю, — улыбнулся Уинстон. Они разложили на траве все припасы, приготовленные для них поваром.
Там была рыба — нежная, почти прозрачная, она просто таяла во рту. Ветчина, нарезанная ломтиками, тонкими, как носовые платки. Там были и маленькие неаполитанские печенья с необыкновенно вкусными начинками — они даже и не пытались догадаться, что в них было положено.
Черные маслины были как раз нужной спелости — итальянцы подают их ко всем блюдам. Были и крокеты — Уинстон сказал, что это одно из самых любимых блюд в Неаполе, картошка и пармезанский сыр, завернутые в тонкие ломтики хлеба и обжаренные в оливковом масле…
Кроме того, было великое множество разных местных сортов сыра и один совершенно особый — изготовляемый из овечьего молока в окрестностях Сорренто.
Все это было необыкновенно вкусно, а на десерт они ели персики — Уинстон почистил для нее один и предложил в стакане белого вина, а потом фиги и грецкие орехи — еще одно любимое лакомство жителей Сорренто.
Потом был кофе во фляге, сохраняющей тепло, — Уинстон пришел от него в восторг.
— Как хорошо! — блаженно воскликнул он.
— Да, хорошо, — согласилась Марина. — Но есть маленькая неприятность — меня так разморило, что мое страстное желание осматривать остров уменьшилось ровно наполовину.
Она уложила в корзины остатки еды, ножи, вилки и посуду, затем с сомнением посмотрела на Уинстона, лежавшего на спине на травке, — точно так же, как и перед едой.
— Я чувствую, нам нужно срочно подниматься, чтобы успеть посмотреть остальную часть острова, — сказала она осторожно.
— Сейчас слишком жарко, — ответил он. — Ни один благоразумный итальянец в это время дня и носа не высунет из дома. Отдохните немного, Марина. Сиеста полезна и для души, и для тела.
Растянувшись в полный рост на мягкой траве, девушка стала вдыхать ароматы цветов и запахи трав — запахи юной нетронутой природы.
— Вот и правильно, — одобрительно произнес Уинстон. — Не люблю суетливых женщин!
— А я суетливая?
— Нет. В вас есть безмятежность, которая мне нравится и которой я завидую.
— А я завидую вам.
— В чем же?
Он приподнялся на локте и с интересом посмотрел на нее.
Ей был виден его силуэт на фоне ветвей, сквозь которые пробивались солнечные лучи, образуя вокруг его головы светлый нимб.
— Я завидую вам, — ответила она, — потому что вы так уверены в себе и успеете еще так много сделать в этом мире…
Уинстон не ответил.
Тут она поняла, что он смотрит на нее, и смутилась, увидев его какой-то странный взгляд. Вдруг он сказал:
— Вы такая милая! Я никогда еще не встречал никого милее вас!
Его губы нашли ее рот, и ей показалось, будто он слетел с неба и сразу завладел ею.
Сначала его поцелуй был нежен, и ее губы были мягки и податливы под его губами. Потом его рот стал требовательным и настойчивым, и она почувствовала уже знакомую дрожь во всем теле, но более сильную и нестерпимую.
Все ее существо как бы пронизал сильный свет, наполнив тело незнакомым ей огнем и восторгом.
Ей показалось, что вся красота вокруг них проистекает от этого чувства. Голубизна моря и неба, волшебная прелесть острова, цветы и каждый листочек на дереве — все было частью этого чуда, происходящего между ними…
На свете не было ничего, кроме Уинстона. Он заполнил собой Вселенную, и она уже не могла ощущать себя отдельно от него.
Наконец он поднял голову и сказал:
— Любовь моя, я не могу тебе сопротивляться! Ты взяла меня в плен в тот самый момент, когда я увидел тебя в храме и подумал: передо мной — Афродита!
— А я подумала… ты… Аполлон! — прошептала Марина.
Ей трудно было говорить — она дрожала, чувствуя, как кровь бьется в ее теле под его поцелуями.
— О чем же еще мы можем спрашивать друг друга! — воскликнул Уинстон.
Он опять стал целовать ее — рот, глаза и лоб, ее маленький прямой нос, и щеки, и уши, и снова губы…
Время для Марины остановилось, был лишь восторг, ослепляющий и всепоглощающий, и ни одной мысли!
Уинстон снял муслиновый шарф, завязанный у нее вокруг шеи, и стал целовать нежный изгиб.
Это было совсем новое ощущение — дыхание ее участилось, а веки отяжелели, хотя ей совсем не хотелось спать…
— Как же можно быть такой красивой? — спросил он позже, осторожно проводя указательным пальцем по ее лбу и вдоль линии носа, по губам и подбородку. — Твое лицо безупречно, — продолжал он. Я понял, когда встретил тебя тогда, что я уже видел тебя раньше — в моих мечтах, когда смотрел на статую Афродиты в нашем храме.
— А я в тот день все время думала об Аполлоне, — сказала Марина, — и, когда солнце садилось, мне казалось, что это он забирает свет и переносит его на другую половину земли, оставляя меня в темноте. И тут я обернулась и увидела тебя!
— Если бы я тогда сделал то, что подсказывал мне инстинкт! — вздохнул Уинстон. — Я должен был подойти и обнять тебя. Не нужно было бы никаких объяснений, никакого знакомства. Мы уже знали друг друга!
Он опять стал целовать ее, и она придвинулась ближе к нему, чувствуя, что все ее тело томится какой-то непонятной, странной болью.
— Я люблю тебя! Я люблю тебя, — снова и снова повторял он. — Я искал тебя всю свою жизнь! Каждая красивая женщина, которую я встречал, разочаровывала меня, потому что это была не ты!
Целуя ее маленький подбородок и уголки ее губ, он продолжал:
— Мне всегда чего-то не хватало, я никак не мог выразить это словами, но этого всегда не хватало моему сердцу!
— И ты из-за этого никогда не женился? — спросила она.
И как только она произнесла это слово, она почувствовала, что оно — как камень, брошенный в воду, вокруг которого, умножаясь и расходясь, сразу пошли круги.
Он замолчал, а потом сказал:
— Никогда еще я не просил ни одну женщину выйти за меня замуж. У тебя есть от меня тайны, Марина, ты обещала открыть их мне сегодня вечером. Но мне совершенно все равно: что бы ты ни сделала и что бы ни скрывала — это не имеет никакого значения. — Его объятия стали еще крепче. — Наши души нашли друг друга. Только тебя я искал всю свою жизнь, и только тебя жаждет мое сердце.
Он снова наклонился к ней, и поцелуи его стали еще более страстными и неистовыми.
Он целовал ее, и ей показалось, что земля ушла из-под нее и она парит в воздухе, а над ней с головокружительной быстротой проносятся облака.
Он целовал ее, пока у нее не кончилось дыхание и она не почувствовала, что все ее тело как бы излучает свет.
— Я люблю тебя! Я люблю тебя! — повторял он, и она услышала вдруг свой собственный голос — дрожащий и вместе с тем исполненный необъяснимого восторга:
— Я люблю… люблю тебя! О-о, Аполлон… я люблю… тебя!
И неожиданно Марина подумала: вот так она должна умереть, рядом с Уинстоном, принадлежа ему полностью. В его объятиях она не почувствует ни ужаса, ни страданий…
— Я люблю тебя, — повторил он опять.
— А ты не хочешь… любить меня… до конца, — прошептала она, — как мужчина любит женщину и делает ее… своей. Я хочу… принадлежать тебе… быть твоей!
Ее голос замер — она почувствовала, как Уинстон замер.
Девушка поняла, что сказала что-то не то. Ее слова сразу как бы воздвигли между ними барьер, и она могла лишь горько оплакивать это несчастье.
Он медленно поднялся, потом, не говоря ни слова, встал на ноги и, отойдя немного в сторону, стал смотреть на море.
Марина села.
Боже мой, она сделала ошибку, она его потеряла, и это было невыразимо больно, будто в ее сердце воткнули и повернули там нож!
Ей казалось, он стоял так бесконечно долго, и она, не двигаясь, смотрела на него в немом отчаянии.
Наконец он глубоко вздохнул, и вздох этот, казалось, шел из самой глубины его существа.
— Я думаю, нам пора возвращаться, — сказал он. — Нужно еще обсудить массу вещей, я не собираюсь ничего от вас скрывать.
Марина хотела возразить ему, ей хотелось подбежать к нему и сказать, что она совсем не то имела в виду, попросить, чтобы он снова поцеловал ее, и опять почувствовать его близость и теплоту, но слова не шли у нее с языка.

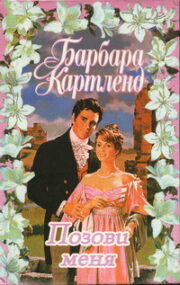
"Позови меня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Позови меня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Позови меня" друзьям в соцсетях.