ДЖАЛОЛ ИКРАМИ
Поверженный
Революционная Бухара была в трауре. Шумно и многолюдно было в тот день на кривых, извилистых улицах города. К алым полотнищам флагов, висевших у ворот, над дверями домов, на порталах зданий, были прикреплены черные ленты. Впервые красное знамя бухарской революции было омрачено траурной чернотой.
А вокруг царила яркая, радостная весна. Солнце щедро разбрасывало по городу золото своих лучей, ласковый ветер приносил с полей свежие запахи расцветающей зелени. Плодовые деревья оделись в разноцветные благоухающие платья. Теперь можно было без страха выходить за городские ворота, отправляться в загородные сады: разбойничья шайка Асада Махсума ушла, с городской окраины была отогнана далеко в горы. Бухарцы могли вздохнуть свободно, радоваться и веселиться.
Но из Кагана пришла печальная весть: в больнице от пули Асада Махсума скончался Сайд Пахлаван. И стар и млад в Бухаре знали это имя. Рассказы о его мужестве, о его героических делах, когда он с секретным заданием находился в отряде Асада Махсума, были у всех на устах. Уже знали о том, как был спасен им Козим-заде, как ударом кулака он сразил Найма Перца, ближайшего помощника Асада. Рассказывали, как Сайд Пахлаван спасал от расстрела невиновных, арестованных по указанию Асада Мухсума, как он, рискуя быть разоблаченным, давал палачам холостые патроны, а тех, кого вели на расстрел, учил при звуках выстрела падать на землю. Затем он сам ходил среди «расстрелянных», тоже стрелял в них холостыми, затем уводил с собой солдат. После их ухода «мертвецы» вскакивали и убегали прочь. Асад знал, что Сайд Пахлаван силач — он мог ударом кулака убить человека, и побаивался его… И теперь, после всех подвигов Сайда Пахлавана, весть о его смерти не могла не опечалить народа. Газета «Бухоро ахбори» посвятила ему целую страницу, напечатала его портрет. Ласково, с любовью глядели с газетной страницы его умные проницательные глаза, губы слегка улыбались. Он словно извинялся, что ушел из жизни так рано, в этот весенний день, когда столько было вокруг работы, которую он переложил на тех, кто остался жив. Усы и борода его с проседью, но, видно, он был еще крепок, полон сил. Под портретом в черной рамке была подпись: «Сайд Пахлаван, отдавший свою жизнь за свободу и независимость народа Бухары».
Газета сообщала, что похороны Сайда Пахлавана состоятся в одиннадцать часов, что на вокзале Старой Бухары будет траурный митинг. Узнав об этом, с раннего утра к вокзалу потянулись толпы людей — старых и молодых, таджиков, узбеков, русских. Шли группами, несли в руках флаги, но в барабаны не били, люди молчали.
За вокзалом Бухары была вымощенная камнем площадь. Сюда и направляли людей милиционеры. А на перроне собрались члены правительства, руководители разных организаций. Присутствие Файзуллы Ходжаева, Муиддинова, Акчурина придавало особую значительность происходящему. Алые знамена были приспущены, траурные ленты свисали с них. В стороне на скамейке сидели, плача, жена и дочери Сайда Пахлавана.
Ровно в одиннадцать часов издали послышался протяжный гудок паровоза, и медленно, плавно подошел к перрону паровоз с одним вагоном. На паровозе на красно-черном полотнище был укреплен в черной рамке портрет Сайда Пахлавана, украшенный цветами. Траурный поезд подошел к зданию вокзала. Открылась дверь вагона, и Хайдаркул, Козим-заде, Асо и Насим-джан вынесли на руках погребальные носилки, обернутые красной и черной тканью. За носилками из вагона вышли Мирак, зять и друзья Сайда Пахлавана. Члены правительства подошли к вагону и окружили носилки с телом Сайда Пахлавана. Файзулла Ходжаев и Акчурин вместе с другими подняли носилки на свои плечи и понесли. Военный оркестр играл траурный марш, громко плакали женщины. «Дада-джан», — причитал Мирак. Невольно навернулись слезы и на глаза Файзуллы Ходжаева, не могли удержать их Асо и Насим-джан. Хайдаркул не плакал, шел, крепко сжав губы, хмурый, суровый. Носилки пронесли через помещение вокзала и вынесли на площадь. Там приготовлен был широкий стол, покрытый красной материей. Носилки поставили на него. Музыка смолкла. На минуту наступила тишина, и на площади, где собралось очень много народу, слышались только всхлипывания Мирака. Скорбное молчание нависло над площадью.
Но вот Файзулла Ходжаев открыл траурный митинг, посвященный «нашему верному товарищу, погибшему за правое дело, Сайду Пахлавану».
Сняв шапку, вышел вперед Хайдаркул и, словно обращаясь к покойному, стал говорить. Голос его звучал хрипло, как у старика, бесконечно устало.
— Брат мой, мой богатырь, герой наш, дорогой Сайд! — сказал он. — Разве мог я подумать, что я, старый, убитый горем человек, старший твой брат, останусь жив, а ты раньше меня закроешь глаза?
При этих словах Мирак, его мать и другие женщины зарыдали.
— Кто мог подумать, что такой богатырь упадет, сраженный безжалостной пулей врага, — и это в такое горячее время, когда все пришло в движение, когда лучшие отстаивают завоевания революции.
Ты это знал! Ты спасал других, товарищей своих, загородив их своей грудью! Ты сам бросался наперерез врагам, чтобы другие получили свободу, ты пал жертвой за других! Твоя смерть должна быть для нас уроком. Смерть Сайда Пахлавана требует, чтобы мы шире открывали глаза, чтобы мы научились распознавать врагов, отличать врага от друга. Довольно, хватит! Нерешительность, слабоволие, ложное добродушие принесет только гибель нашему революционному делу! Нужно быть беспощадными к врагам революции. Мы должны ответить кровью за кровь, смертью за смерть!
Хайдаркул очень разволновался. У праха лучшего своего товарища он высказал всю боль и обиду своего сердца и призвал народ к бдительности, непримиримости к врагам революции.
После него со слезами говорил Козим-заде, рассказал, как он был спасен Саидом, низко поклонился останкам своего спасителя и поклялся отомстить за него.
Файзулла Ходжаев объявил митинг закрытым, объявил, что похороны состоятся на холме Шахидон, за воротами Углон.
Траурные носилки подняли, снесли вниз и по военному обычаю установили на оружейный лафет, который везла четверка лошадей, украшенных черными и красными лентами. За носилками шли Мирак и все родные, потом члены правительства, Хайдаркул, Асо, Насим-джан, Козим-заде. За ними — военный оркестр, игравший траурный марш.
Среди тех, кто следовали за носилками с прахом Сайда, были Низамиддин и председатель ЧК Аминов. Шли молча, исподлобья поглядывая на народ. Оба они считали себя виноватыми, ответственными за происшедшее — с той, однако, разницей, что председатель ЧК скорбел о тяжелой утрате, которую понесла революция, а Низамиддин видел в этом поражении своих единомышленников и грозившую им неудачу.
Толпы народа стояли на улицах города, люди смотрели на похоронную процессию, даже взобравшись на балаханы и на крыши домов. У хауза Девонбеги Низамиддин увидел в толпе Окилова, одного из своих приспешников, делавшего ему какие-то знаки. «Вот негодяй!» — в сердцах пробормотал Низамиддин и, отвернувшись от него, обратился к председателю ЧК:
— Ваши люди, конечно, будут охранять руководителей на кладбище… Я еще с вечера распорядился, чтобы здесь дежурили милиционеры.
Вокруг кладбища будет двойная охрана…
— Правильно сделали! — сухо отвечал председатель ЧК.
Такой ответ показался Низамиддину неприличным, недостойным его особы. Ведь как-никак он — назир внутренних дел! Почему же этот человек говорит с ним так неучтиво? Может быть, уже известна его тайная связь с Асадом Махсумом? В этом не было бы ничего удивительного. Кто знает, может, какой-нибудь трус, испугавшись разгрома отряда Асада Махсума, выдал его? Поведение председателя ЧК подозрительно. И, как назло, этот болван Окилов делал ему какие-то знаки. Дай бог, чтобы председатель ЧК или кто другой не заметили этого…
Низамиддин расстроился. Каждое слово, каждый взгляд вызывали в нем настороженность, подозрение. Он сомневался в каждом человеке, всех боялся. Горькая выпала ему доля. Он завидовал Асаду Махсуму: тот смог открыто выразить свой протест и уйти; никому не льстит, никого не боится, не лжет, не притворяется: дерется, убиваег, сражается, отступает и вновь наступает… А он…
— Товарищ Низамиддин! — Голос зовущего отрезвил его. К нему подходил Акчурин.
Низамиддин обернулся к нему с подобострастной улыбкой, сказал:
— Слушаю вас.
— Вы должны выступить с речью у могилы, — сказал Акчурин. — Скажите о бдительности, о необходимости дать отпор врагам революции.
— Хорошо, хорошо, — с готовностью отвечал Низамиддин. — Я постараюсь.
Акчурин отошел от него. Низамиддин немного успокоился, оглянулся по сторонам и вновь зашагал важно и степенно. Он понял, что тайна его еще не раскрыта, что ему верят, раз дают такое важное поручение — слово на похоронах Сайда Пахлавана. Но что он должен сказать? Сначала, конечно, о самом Сайде: сожаления, восхваления, о его геройстве, об убийстве… Потом, может быть, об Асаде? Нет, нет! О нем не надо упоминать… Лучше сразу перейти к вопросу о бдительности, о Назирате внутренних дел, о самозащите и самопожертвовании… Прощай, дорогой друг! Спи спокойно, а мы продолжим твое дело, отомстим за тебя… и так далее… и тому подобное.
На кладбище собралось множество народу. Для выступающих там было сооружено возвышение. Многие столпились у свежевырытой могилы. Митинг открыл Абдухамид Муиддинов и предоставил первое слово Низамиддину. Низамиддин поднялся на возвышение.
— Товарищи, уважаемые братья! — сказал он и на минуту замолк. Взгляд его упал на Гулом-джана Махсума, который стоял неподалеку и смотрел на него выжидающе. Увидев его, Низамиддин сразу позабыл все, что приготовился сказать. Чтобы прервать неприятную паузу, он стал говорить первое, что пришло на язык: — Бог возвестил нам, что всякий, кто погибнет в борьбе за правду, станет шахидом. А станет шахидом, место ему будет в раю. В раю место Сайду Пахлавану. Спи спокойно, дорогой друг, любимый наш товарищ! Мы продолжим то дело, которое не завершил ты…

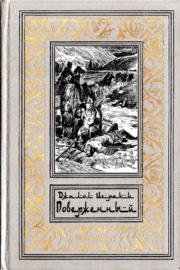
"Поверженный" отзывы
Отзывы читателей о книге "Поверженный". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Поверженный" друзьям в соцсетях.