Вы пишете письма и снимаете видео, но переписать жизнь других вы не в силах. Вы не знаете будущего, никто не ждет от вас совершенства, но как бы вы ни хотели быть здесь, с вашей семьей – ради Клер, ради Евы и Каспера, – вы не можете решить за них, как сложится их будущее. Вы не будете с ними в каждый момент их жизни. А вот память о вас – будет. – Я думаю о том, как Джерри наполнил меня энергией на похоронах Берта. – А потом, кто знает, может, вы будете с ними как-то иначе. Может, они почувствуют ваше присутствие таким образом, который вы не можете ни предвидеть, ни вообразить. Я теперь в это верю.
Я замолкаю и смотрю прямо перед собой на поля, которые окружают замок. Я жду, чтобы он встал и ушел, но проходит минута, и он все еще здесь. Осторожно кошусь на него. Он вытирает от слез щеки.
Обежав стол, я кидаюсь к нему, сажусь рядом, обнимаю.
– Мне так жаль, Пол!
– Не о чем жалеть, – дрожащим голосом говорит он. – Лучше совета мне никто не давал в жизни.
Я с облегчением перевожу дух, но в то же время чувствую его печаль, остро. Она тяготит мне душу.
– Мне следовало сказать это давным-давно. Всем вам.
– Скорее всего, я бы вас не услышал. – Он вытирает глаза и наконец произносит: – Я умираю. Я просто делал… все, что мог, делал, чтобы оставить им как можно больше себя.
– Конечно… но ведь нужно, чтобы у них осталось местечко, чтобы самим вас помнить. – Мне приходит в голову мысль, живая и яркая, и адресована она мне самой. – И еще – они не должны допустить, чтобы ваш призрак занял чье-то еще место.
После этого разговора у меня нет никакого желания ехать к родителям, и я возвращаюсь домой. Достаю письма Джерри из тумбочки рядом с кроватью. Они всегда рядом со мной все эти годы. Я вынимаю из конверта то, что хочется перечесть.
Самым дорогим для меня письмом Джерри было четвертое. В нем он просил избавиться от его вещей – не от всех, конечно, но предупредил, что оставить и с чем расстаться, что отдать и кому. Он писал, что мне не нужны его вещи, чтобы чувствовать его рядом, что рука его всегда у меня на плече, направляет меня. Он ошибался. В тот момент я как раз очень нуждалась в его вещах. Я зарывалась лицом в его футболки, которые отказывалась стирать, надевала его свитеры, воображая, что он меня обнимает. Это письмо было одним из самых моих любимых, потому что оно дало мне чем заняться, и не на день, а на целый месяц. Неделями я перебирала вещи: то одну прижму к сердцу, то другую, что-то про каждую припомню, а уж потом найду ей новых хозяев.
Теперь мне жаль, что я поторопилась. Мне жаль, что не сумела получше обдумать свою жизнь и то, что мне пригодится. Ведь Джерри оставлял свои распоряжения той женщине, которую знал, а не той, которой я стала после его смерти. Получилась, что я отдала вещи, которых мне теперь не хватает, и, что еще важней, по его слову оставила те, бесценные для него, которые держать не вправе. Я оставила их потому, что он так велел, воспользовалась его решением, оправдывая свою жадность.
Свою роль тут сыграл тот случай, что мне пришлось доставить письмо Берта Ритиной сестре. С тех пор на душе у меня смутно. Нельзя винить мертвых, – выкрикнула Рейчел, оправдывая решение своей матери, как будто последние желания умирающих всегда правильные, священные и неприкасаемые. Раньше я бы с ней согласилась, но теперь сомневаюсь. Что, если мы ошибаемся? Что, если те, кто нас покидает, не всегда видят картину целиком, и оставляют нам окончательное решение с верой, что мы знаем лучше?
Я въезжаю в селение Малахайд и от церкви беру налево, вниз по Олд-стрит, к гавани для прогулочных катеров и набережной, где под навесом стоит ремонтная мастерская. Там все еще работает его отец. Я навещаю родителей Джерри несколько раз в год, они по-прежнему входят в мою семью, я по-прежнему их невестка, но со временем, поскольку посредник между нами исчез, отношения потеряли основу под собой, истончились. Разговоры порой натянуты, принуждены, неловки – тяжелая, утомительная работа, а не беседа. Хотя свела нас вместе любовь, невозможно не думать о том, что объединены мы и утратой. Время никому не друг, и в моих стараниях отпустить прошлое и продвинуться вперед, к свету, – эта часть моей жизни, похоже, пострадала от небрежения. Открытки к Рождеству, подарки на дни рождения, которые я сначала привозила сама, а потом посылала почтой… и понемногу мы все больше расходимся.
Отец Джерри меня не ждет; даже при живом муже я никогда не приходила к нему на работу, но мне следует исполнить то, что я надумала, и непременно сегодня. Дело в том, что работа в клубе «P. S. Я люблю тебя» заставила меня с другой точки зрения взглянуть на причины, по которым Джерри писал свои письма. И отчасти урок состоит в том, что и Джерри был прав не всегда, и я – не всегда права в том, что следовала его наставлениям.
Подъезжаю к лодочной мастерской, и стальные ворота, разумеется, заперты. За забором рабочие зачищают, чинят, красят катера разных размеров, установленные на стальные опоры. С трудом обратив на себя внимание одного босоногого, с голым торсом работника, потеющего на солнце, я машу ему.
– Мне нужен Гарольд, – кричу я. – Гарри?
Он открывает ворота, и я иду за ним. Гарри, благодарение богу, полностью одет и погружен в починку огромного пропеллера.
– Гарри! – кричит мой сопровождающий.
– Холли? – подняв голову, удивляется тот. – Что случилось? – Он откладывают свой инструмент и идет ко мне, распахнув руки.
– Рада видеть тебя, Гарри, – ласково говорю я, вглядываясь в лицо, в котором ищу сходства с сыном, с тем Джерри, какого я знала, и тем, каким стал бы он в старости, но старости для него не будет. – Извини, что свалилась как снег на голову.
– Я рад тебя видеть. Выпьем чайку в конторе? – Он кладет руку мне на спину, чтобы меня проводить.
– Нет, спасибо, я ненадолго.
Чувствую, как накатывают эмоции, как бывает всегда, когда кто-то физически напоминает мне Джерри. Присутствие его отца возвращает его к жизни, жизнь отца подчеркивает смерть сына, а живое подтверждение того, что он умер, всегда тяжело.
– Что случилось, милая?
– В этом году я занялась новой работой. Джерри подтолкнул меня к этому.
– Продолжай, – с интересом говорит он.
– Я помогаю тем, кто смертельно болен, написать прощальные письма родным. Они назвали это клуб «P. S. Я люблю тебя».
В отличие от моих домашних, у большинства которых эта идея вызвала отторжение, он улыбается – и видно, что готов прослезиться.
– Чудесная мысль, Холли. И достойная память Джерарду.
– Я рада, что вы меня поддерживаете. Так случилось, что теперь я все время думаю о письмах Джерри, и о том, что в них было так и не так.
Клуб «P. S. Я люблю тебя» стал для меня прямо-таки кладезем, сокровищницей жизненных уроков. Шесть лет я оберегала от других свой опыт, связанный с письмами. Но стоило мне рассказать о нем вслух в подкасте, как в толковании его возникли дыры и появились вопросы. Писал он эти письма для меня, как я всегда думала, или же для себя? Всегда ли я хотела, чтобы они продолжали приходить? Были такие письма, содержание которых я хотела бы изменить? Если я действительно хочу помочь членам клуба, я должна быть честна и с ними, и с собой насчет того, что сработало для меня и что нет, и нет тут никакой неверности по отношению к Джерри, как я сначала боялась.
– В общем… – Я лезу в сумку и достаю футляр, который он сразу же узнает, тихо охнув. Берет его у меня, открывает. Внутри часы, которые он подарил сыну на его двадцать первый день рождения, дорогой хронометр. Джерри носил его не снимая.
– Джерард оставил это тебе, – хрипло говорит он.
– Он ошибся. Это был ваш подарок ему. Это символ отношений между отцом и сыном. Отец вправе получить свой подарок назад.
Помолчав, он кивком благодарит меня, глаза мокрые, голова опущена. Вспоминает, должно быть, как дарил сыну эти часы, как они вместе рассматривали их, обсуждали… Это одна из тех вещественных нитей, которые их связывали.
Джерри оставил их мне, потому что они дорого стоят, но для отца они несравненно, гораздо ценнее.
Гарри достает часы из футляра, отдает футляр мне и, надев часы на запястье, защелкивает замок и смахивает с глаз слезы.
Я помню тот момент, когда они остановились, два дня спустя после смерти Джерри. Они лежали у меня на ночном столике, а я, укрывшись с головой, вглядывалась в черноту, угадывая в ней ту сторону мира, ни в чем участвовать не желая, но все равно настороже. Слушала, как тикают его часы, представляла, как кругом ходят стрелки по циферблату, который видела на руке мужа каждый день прожитой с ним жизни. А потом они – ап! – остановились.
Гарри крутит заводную головку, и они снова начинают идти.
Глава тридцать третья
– Сверните сюда, – вдруг в панике кричит Джиника, когда я везу ее домой после урока.
Включаю поворотник и перемещаюсь в самый правый ряд на Драмкондра-роуд, перепуганная, что ей плохо, что ее тошнит, что она сейчас вырубится.
Останавливаюсь.
– Что с тобой? Воды хочешь?
– Я в порядке. Давайте вперед по переулку.
Я даже не знаю, где мы, не думала, что это важно, но, пока едем, понимаю, что это территория футбольного клуба «Хоум Фарм». Сбитая с толку, останавливаюсь, как она мне велит, перед футбольным полем, на котором тренируется команда. Смотрю на нее, жду объяснений, но она молча смотрит на футболистов, и, сообразив, что ей нужно время, я свожу к минимуму свое присутствие.
– Я здесь когда-то играла, – наконец произносит она.
– Правда? – радуюсь я, что она раскрывается. – Надо же, ты у нас футболистка!
– Я была бомбардир, – веско говорит она, не отрывая глаз от поля.
– Ну, кто б усомнился!
Тут она слегка улыбается.
Джуэл подает голос с заднего сиденья. Я оборачиваюсь, чтобы вернуть ей рисовое печенье, которое она уронила. Она хватает его с тихим «та-та» и снова сует в рот. В одной руке у нее это печенье, в другой – большой палец ноги, который она тянет ко рту, словно проверяя, что вкуснее.

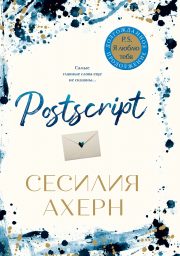
"Postscript" отзывы
Отзывы читателей о книге "Postscript". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Postscript" друзьям в соцсетях.