– Он любит тебя, – повторяет Эдди, – и ты любишь его, так ведь?
Я кошу глазом на Джерри. В отличие от меня он, кажется, счастлив, просто тает от этой демонстрации любви и доверия. Его не беспокоит ни то, что его душат в объятиях, ни то, что в лицо ему летят пот и слюна. Или то, что его подружку берут за горло, заставляя признаться в любви к нему.
– Да, – киваю я.
Джерри смотрит на меня с нежностью, зрачки у него расширены, я понимаю, что он пьян, но это-то ладно, у меня тоже голова кругом. И сияет он такой дурацкой улыбкой, что невозможно не засмеяться.
– Ладно, выметайтесь отсюда, вы оба, – говорит Эдди, выпуская нас из своей хватки, еще одним смачным поцелуем лохматит волосы Джерри и уходит к танцполу поучаствовать в баттле с товарищем по команде.
До дома Джерри мы добираемся быстро, не желая терять ни секунды нашего волшебного времени. Джерри ужасно мил и очень внимателен. Мы оба такие. Мы оба думаем друг о друге, и от этого каждому только лучше. Он зажигает свечу и ставит музыку.
Мне шестнадцать, ему семнадцать, и мы последние из наших друзей, кто познал любовь, хотя встречаемся дольше всех. Я такая задавака, что думаю, что у нас с Джерри все будет иначе. Да мы оба такие воображалы и задаваки, что делаем все в точности так, как нам хочется. Терпеть не могу это слово – «задавака», но что поделать, именно такими нас считают другие. Мы оба уверены и в себе, и друг в друге, и позволяем себе жить по-своему, никогда не следуя за толпой, танцуя, а не маршируя в своем собственном темпе. Кое-кого это раздражает, и порой нас отсекают, но у нас есть мы, и нам наплевать.
Мы любим друг друга, и делаем это с подлинной нежностью и глубиной, и он находит во мне свое укрытие, а мое укрытие в том, чтобы окутать его собой. Мы вместе выдалбливаем себе местечко в мире. После он ласково целует меня и вглядывается в лицо, чтобы прочесть мысли, – его вечно заботит, о чем я думаю.
– Эдди обнимался больнее, – говорю я, и он смеется.
Мне жаль, что нельзя провести так всю ночь и проснуться утром в его руках. Но нам это не позволено. Наша любовь ограничена другими, другие ею руководят. Простое удовольствие: на рассвете проснуться рядом – будет доступно нам, только когда «они» дадут добро. Мой комендантский час – два ночи, и он уже пробил, когда я машу Джерри, выходя из такси.
Едва успеваю заснуть, как меня будит мама, и я пугаюсь, что разоблачена, но дело не в нас. В трубке Джерри, и он рыдает.
– Холли! – захлебываясь, хрипло твердит он. – Эдди умер.
Когда вечеринка в «Эринз Айл» закончилась, те, кто не угомонился, направились в клуб на Лисон-стрит. К тому времени Эдди уже так набрался, что на ногах почти не стоял, и в этом состоянии, отстав от компании, вроде бы стал ловить такси. Его нашли без сознания на проезжей части. Кто-то его сбил и уехал. До больницы не довезли, умер.
Эта смерть резко меняет жизнь Джерри, весь ее налаженный механизм дает сбой. Он работает, но со сбоями, и я знаю, что таким, как раньше, ему уже не бывать. При этом я его не теряю, нет. Те его стороны, которые занимались ерундой, отвалились, а те, которые я люблю, стали лучше и совершеннее.
Непонятно, отчего это случилось. То ли оттого, что в то самое время, когда Эдди проживал свои последние часы, мы занимались любовью и, расплавив свои прежние формы, спеклись вместе во что-то совсем новое, то ли просто оттого, что Эдди не стало. Я уверена, что важно и то и другое. Смерть Эдди стала для нас событием чудовищного масштаба, это не могло на нас повлиять. Но я заметила, что оба события, и любовь, и смерть, только сблизили нас теснее. И кое-что я знаю точно: чем больше мир рассыпается, тем крепче мы держимся друг за друга.
Потом были похороны.
И дальше произошло нечто особенное.
Мы сидим в доме Эдди с его родителями, братом и сестрой, все ужасно подавлены. Джерри терзается тем, что его не было рядом, когда Эдди оторвался от своих, повторяет, что не отпустил бы его одного, посадил бы в такси, привез домой. Но оба мы помним, что Эдди знал, что у нас любовь, и ему очень нравилось, что это любовь, он сжал нас в объятиях, благословил и отправил нас восвояси. Нет оснований угрызаться виной, остается лишь горевать, что Джерри не суждено было спасти брата.
– Если я жалею о том, что не был в тот момент с Эдди, значит, я жалею о том, что случилось у нас с тобой в ту ночь, – заключает Джерри потом, когда мы остаемся вдвоем. – А я не жалею об этом ни единой секунды.
Мать Эдди ведет нас наверх показать подарки, все еще в нарядной упаковке, с непрочитанными поздравительными открытками. Целая гора подарков на двадцать первый день рождения, и Эдди не открыл ни одного. Уйдя с праздника, его родители привезли всю эту гору домой в здоровенном пластиковом мешке.
– Просто не знаю, что с этим делать, – вздыхает мать.
Мы стоим и смотрим на них. Коробок сорок, не меньше.
– Хотите, мы поможем их вам открыть? – спрашивает Джерри.
– И зачем они мне?
Мы стоим в спальне Эдди. Она заполнена его личными вещами. Теми, к которым он прикасался, которые он любил. Они хранят его запах, его чувство юмора, его силу. Каждая со своей историей, каждая что-то значит. Спортивные кубки, свитеры, плакаты на стенах, плюшевые мишки, компьютерные игры, учебники; то, что несет на себе отпечаток его личности. Тогда как неоткрытые подарки ничего об Эдди не говорят, не было у него шанса оставить на них свой след.
– А хотите, мы их за вас вернем? – спрашиваю я.
Джерри бросает на меня быстрый ошарашенный взгляд. Я брякнула что-то не то? На мгновение я пугаюсь, что меня неправильно поняли.
– А вы возьметесь за это? – спрашивает мать Эдди.
Опускаюсь на колени и открываю двойную открытку, задней стороной приклеенную к подарку, который завернут в синюю бумагу с рисунком из футбольных мячей.
– «Пол Б.», – читаю я подпись.
– Пол Бёрн, – говорит Джерри. – Из команды.
– Ты ведь знаешь их всех, Джерри, – кивает его тетка.
– На каждом есть карточка, – говорю я. – А что, это возможно. – Смотрю на Джерри, который, кажется, сомневается. – Это будет подарок от Эдди его друзьям.
Не знаю, почему я так говорю. Может быть, потому, что хочу убедить Джерри, я ведь вижу, что его тете эта мысль по сердцу, но потом и сама в это верю. «Последний дар Эдди, где бы он сейчас ни был».
И Джерри за это хватается. Несколько следующих недель мы оба только и заняты тем, что возвращаем подарки. Выясняем, кто подарил, где он живет, и возвращаем. И оказывается, что каждый подарок – это история про то, что за человек был Эдди. И тот, кто дарил, делится с нами этой историей, хочет, чтобы мы ее знали. Почему решено было дарить именно это, какая байка за этим кроется, и в этих рассказах Эдди словно бы оживает. И хотя люди вроде бы получают свой дар обратно, все равно он уже не тот, что прежде, в нем теперь есть частичка Эдди. Его будут хранить. Теперь это вещь с историей, и, сберегая ее, они не дадут памяти угаснуть, будь то футболка, смешные семейные трусы или компас от дяди племяннику, чтобы тот не заблудился в пути. Какого угодно свойства, пустяк или дорогая вещь, сентиментальное напоминание или шутливая подначка, оно – свидетельство дружбы. Так что в каникулы мы с Джерри истово занимаемся этим все свободное от своих подработок время. Разъезжаем в машине его отца, благо водительские права у Джерри уже есть, только мы вдвоем; с непривычной еще свободой выполняем важную, взрослую миссию.
Мы плавимся и формуемся заново. Я видела, как это бывает. Я это чувствовала. Он был в моих руках. Он был во мне.
Секс, смерть, любовь, жизнь.
Мне шестнадцать. Джерри семнадцать. Все, что разрушается вокруг нас, только сильнее нас сближает, потому что, как бы ни бушевал вокруг хаос, каждый должен найти себе укрытие, иначе он не услышит, что он сам думает. Наше укрытие – друг в друге.
Мы создали свое пространство, мы в нем существуем.
Глава тридцатая
Замороженная фасоль за ночь растаяла, устроив лужу в ногах кровати. Эта влага просочилась в дремоту: то вижу, что неспешно иду вдоль моря по гладкому пружинистому песку, и волна, вся в пузырьках, то набегает, то отступает; то в бассейне сижу на бортике и болтаю ногами в синей воде. Позже, во сне более глубоком и темном, кто-то крепко держит меня за лодыжку, давит на самое больное, ноющее местечко, а вся я, вниз головой, в воде, как Ахилл. Подразумевается, что, как он, от этого я стану крепче. Но тот, кто держит меня, видно, отвлекся и забыл меня вынуть. Воздух кончился, мне нечем дышать.
От страха просыпаюсь. Яркое летнее утро, птицы поют, ослепительная полоска света от оконного стекла протянулась к самому моему лицу, словно какой-то гигант навис и держит надо мной увеличительную линзу. Прикрываю глаза рукой, пытаюсь смочить слюной пересохший рот. Небо голубое, пикает сигнализация чьей-то машины, какая-то пичуга ее передразнивает. Голубь ей отвечает, ребенок смеется, младенец плачет, футбольный мяч бьется в стену сада.
Это была тягостная ночь. Чувство приподнятости, возникшее на прощании с Бертом, когда мне почудилось, что рядом Джерри, прошло. Я снова раздавлена своей утратой.
В том-то и проблема с любовью и утратой, с попытками удержать или отпустить. Тебя держат, а потом отпускают, соединяются с тобой и прерывают связь. У монеты всегда есть другая сторона, а пограничной зоны меж ними нет. Но я должна ее отыскать. Я не могу потерять себя снова. Надо подойти к делу рационально. Определиться на местности, бросить якорь, все расставить по полочкам. Не придавать чрезмерного значения своим чувствам, потребностям, желаниям и утратам. Перестать сострадать без меры, но не лишиться эмпатии. Двигаться вперед, но не стать беспамятной. Быть счастливой, но не отказывать себе в печали. Обнимать, но не прикипать душой. Решать проблемы, не застревая в них. Противостоять, но не атаковать. Отсеивать, но не уничтожать. Я должна быть бережной к себе, но сильной. Как может разум мой быть целостным, когда сердце мое раздвоено? Столько всяких «быть» и «не быть». Я ничто, но я – все. И я должна, я должна, я должна.

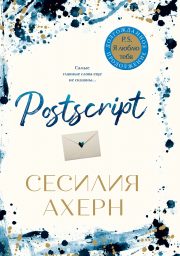
"Postscript" отзывы
Отзывы читателей о книге "Postscript". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Postscript" друзьям в соцсетях.