Я ищу покоя, я ищу одиночества, я ищу компании, я ищу себя. Мечтаю прокатиться на велосипеде – и осознаю, как сильно забивала жизнь движением и работой, только чтобы не думать. Самой себе я была как та подружка, которой избегаешь, потому что темы для разговоров она выбирает слишком болезненные. Это годилось, чтобы изгнать меня из собственной головы, но вот сейчас я должна туда вернуться и устроиться там с комфортом. Там у меня столько всего: мысли надо додумать, поступки – проанализировать, решения – принять. В кои-то веки я не могу убежать от себя.
Утром четверга, который с тех пор, как папа вышел на пенсию, напоминает в родительском доме выходные, я спускаюсь по лестнице на пятой точке. Дотягиваюсь до костылей, которые лежат у подножия, и направляюсь на кухню. Они оба сидят за столом. Мама вытирает с глаз слезы, но улыбается, а у папы взволнованное лицо.
– Что стряслось?
– Ничего не стряслось. – Мама выбирает свой самый успокаивающий тон. – Посиди-ка с нами. Твой папа кое-что нашел.
Усевшись, я вижу, что на столе стоит открытая обувная коробка, полная сложенных вчетверо бумажек.
– Что это?
– Помнишь, – начинает отец, но голос его дрожит, и он откашливается. Мама кладет руку ему на щеку, и оба смеются. – Помнишь, когда ты была маленькой, я часто уезжал по работе?
– Конечно, помню. Ты из каждой поездки привозил мне колокольчики. У меня их было штук двадцать…
– Я терпеть не мог летать, – признается папа.
– И сейчас не можешь.
– Да, ведь это же неестественно, – объясняет он. – Люди созданы, чтобы ходить по земле.
Мы с мамой хихикаем над его уморительной серьезностью.
– Ну так вот, каждый раз, когда мне приходилось забираться в одну из этих ужасных штук, я был уверен, что самолет рухнет.
– Папа! – удивляюсь я.
– Чистая правда, – кивает мама. – Мне труднее было сладить с вашим отцом, когда он улетал, чем с вами, когда вы по нему скучали.
– Перед каждой поездкой, когда предстояло лететь, я садился вечером и писал всем вам, детям, записки. На тот случай, если самолет упадет и я не смогу с вами больше поговорить. Я оставлял их в ящике столика у кровати и строго наказывал Элизабет, чтобы она не позабыла их вам отдать.
Я смотрю на них с удивлением.
– Заметь, мне он никаких писем не оставлял, – ехидничает мама.
– Это не то же самое, что сделал для тебя Джерри, вообще ничего похожего. Никогда в жизни я не приравнивал мои записочки к письмам Джерри. Я даже не клал их в конверты. Мне просто хотелось выразить словами все то, что я хотел бы сказать, если б меня не стало. Руководство по жизни – что-то подобное. – Он придвигает ко мне коробку. – Вот эти – твои.
– Папа, – шепчу я, – сколько их тут?
– Штук пятнадцать, наверно. Я уверен, что не писал ничего, когда полет был недолгий. Не так страшно, когда летишь, например, в Англию. Но самые длинные письма – из винтового самолета.
Мама задыхается от смеха.
Я перебираю записки, а отец говорит:
– Я тут подумал, что они тебе помогут. Сейчас, когда ты стоишь перед решением.
Ком у меня в горле такой, что слова застревают. Привстав, я пытаюсь дотянуться до папы и обнять его, но всем своим весом опускаюсь на больную ногу.
– О черт, – выдыхаю я, падая на сиденье.
– Столько лет – и это все, чего я добился! – отзывается папа.
Рядом с отцом, зависнув над разбросанными по столу письмами и коллекцией колокольчиков, которую с чердака принесла мама, я наугад выбираю одно письмо. Папа разворачивает его, просматривает. Видно, что эта игра, «назад в прошлое», доставляет ему удовольствие.
– Ну-ка, давай взглянем. Барселона. Съезд сбытовиков, мы ездили туда с Оскаром Шихи. У него жутко несло изо рта, и он больше интересовался девицами из эскорта, чем работой.
Улыбаясь, я ищу колокольчик из Барселоны. Вот он, маленький, с черной ручкой и картинкой: кафедральный собор на фоне закатного неба. «Барселона», – написано по основанию от руки. Я звоню в колокольчик, и папа выдает мне письмо. Читаю вслух:
Дорогая Холли,
Тебе исполнится шесть лет на этой неделе. Я в день твоего рождения буду в поездке и ужасно этим огорчен. У тебя будут клоуны. Я надеюсь, Деклан их не испугается, он их терпеть не может и на дне рождения Джека ударил одного в очень болезненное местечко. Но ты клоунов любишь. Ты нарядилась клоуном на Хэллоуин и у каждой двери, в которую мы стучались, рассказывала какую-нибудь шутку. «Как называется зоопарк только из одной собаки? – спросила ты миссис Мёрфи. – Ши-тцу!» Эта шутка про собаку, похожую на льва, так тебе нравилась!
Мне жаль, что я пропущу твой день рождения, этот очень важный день твоей жизни. Но я все время буду о тебе думать. Мне не хотелось уезжать от тебя в этот очень особый день, но папочке надо работать. Знай, что я с тобой всегда и везде, даже если ты меня не видишь. И пожалуйста, не забудь оставить для меня кусочек торта.
Очень тебя люблю,
Папа
– Ох, па. – Я беру его за руку. – Как же это мило!
Мама прислушивается к разговору, стоя у кухонной раковины.
– Как раз в тот день Джек спрыгнул с крыши сарая и сломал два передних зуба.
Мы смотрим на нее в удивлении.
– И на нервах я съела весь деньрожденный торт, – добавляет она.
После смерти Джерри я как бы застряла на месте, забуксовала. Его письма меня подтолкнули, заставили двигаться. На следующий год я села на велосипед и с тех пор яростно крутила педали. Но теперь вынуждена сидеть тихо и снова учиться ходить. Именно это – простая жизнь и ритмичное, как на конвейере, выполнение функций – запускает ход мыслей: жизнь меня ужасает и в то же время с той же силой мне ужасно хочется жить.
Когда Джерри умер, я наивно решила, что вселенная передо мной в долгу. Молодой женщиной пережив огромную потерю, я надеялась, что, выплакав свое, самое страшное я уже испытала, – и на этом всё. Но в мире, где нет предела возможностям, и потерям счета нет, а заодно и опыту, который из потерь и вопреки им – произрастает. Теперь я думаю, что, пережив первую утрату, подготовила себя для второй, для нынешнего момента, и для всех прочих, скрытых в будущем. Я не в силах остановить трагедию, которая разворачивается, я беспомощна перед проделками жизни. Но сейчас, когда я зализываю раны и лечусь, я говорю себе: хотя та машина выбила меня из седла и вмиг лишила самонадеянности, стесала кожу и переломала кости, я все-таки выздоравливаю, и моя новая шкурка будет крепче прежней.
Мозг послал сигнал SOS моим корням. И от корней донеслось: а что, если, разбирая себя на части, я складываю себя заново? В конце концов, такое случалось раньше. Почему бы не повториться?
Когда-то я хотела умереть.
Когда Джерри умер, я хотела быть мертвой.
Когда он умер, часть меня умерла, но часть – родилась заново.
И даже в самый разгар горя, если бы я увидела мчащуюся на меня машину, я все равно хотела бы жить. Возможно, не смерть злит и пугает нас, а тот факт, что мы ее не контролируем. Жизнь может быть отнята без нашего согласия. Дай нам время и возможность решать самим, мы приняли бы свою судьбу и распланировали бы свою смерть. Но нет! И все эти размышления снова и снова выводят меня к клубу «P. S. Я люблю тебя».
Притворяйся мертвой, чтобы выжить.
Притворяйся живой, если ты мертва.
Мы не можем проконтролировать свою смерть, свое прощание с миром, – это так. Но, по крайней мере, можем отвечать за то, что оставляем после себя.
Глава четырнадцатая
За завтраком Гэбриел упорно молчит. Вчера я приехала поздно, он уже спать укладывался, и я присоединилась к нему, благодарная, что не надо взбираться по лестнице. В доме родителей я поднималась наверх на пятой точке, как Гретль фон Трапп в «Звуках музыки» под песенку «Пока! Прощай!». Мы не поговорили, по крайней мере о том, из-за чего поссорились в прошлый раз. Потом я заснула, а Гэбриел – нет. Каждый раз, просыпаясь, я видела, что он что-то читает в телефоне. Либо то, что меня сбили, подействовало на него так сильно, либо наша ссора, либо я вообще ничего не понимаю, и на уме у него что-то еще. Теперь он за стойкой, в одних брюках, внимательно разглядывает сваренные для завтрака яйца.
– Все хорошо?
Он не отвечает.
– Гэбриел?
– Да? – Он наконец реагирует.
– У тебя все хорошо?
– Яйца переварил, – говорит он, снова утыкаясь в них взглядом. Тост у него тоже сгорел. Он картинно вздыхает: – Видно, уж такой сегодня день.
Я улыбаюсь. Он намазывает тост маслом, рассыпая горелые крошки по всей стойке.
– Ты решила помогать клубу, верно? – Он читает мои мысли.
– Да.
С яйцами и тостом на тарелке он молча перемещается на край стойки, усаживается на табурет. Лицо спокойное, деловое. Режет тост на длинненькие кусочки, «солдатики», макает один в яйцо. «Солдатик» ломается. Желток слишком твердый, а не такой, как он любит, когда погружаешь сухарик в жаркую золотистую массу и она переливается через край, ползет струйкой по скорлупе, и можно пальцем ее подхватить и слизнуть.
– Черт, – сердится Гэбриел, швыряя тост.
Эта вспышка меня пугает, хотя я и ожидала такой реакции от моего обычно сдержанного, хладнокровного друга.
– Ладно, пора одеваться, – говорит он и направляется в спальню.
– Ты не хочешь поговорить?
Он останавливается на полпути.
– Ты ведь уже решила. Я все понял. Молчишь целыми месяцами, потом одна принимаешь решение. Отлично, так мы и будем теперь функционировать. Каждый делает то, что считает нужным, а потом информирует об этом другого.
Он исчезает в спальне. Пока я медленно выдыхаю, он снова возникает в дверном проеме, по-прежнему без рубашки.
– Недавно тебя сбила машина, Холли, и, скорее всего, это произошло потому, что ты думала об этом клубе и не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Разве после такого стоит принимать поспешные решения?

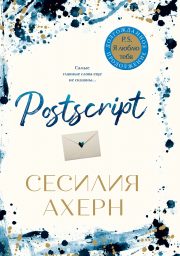
"Postscript" отзывы
Отзывы читателей о книге "Postscript". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Postscript" друзьям в соцсетях.