— И поэтому вы отреклись от принципа королевской власти.
— Не от принципа, миледи. Только от власти Бурбонов. Уж не думаете ли вы, что такой Фердинанд может насаждать просвещение?
— Но Мария-Каролина…
Его лицо помрачнело.
— Да, вначале я в нее верил, на нее надеялся. Когда она появилась здесь. Молодая, с живым умом, любящая все прекрасное. Но потом, когда она разглядела пустого человека рядом с собой, когда после ежегодных родов стала больной, когда ее прекрасные качества переродились… когда не знающая препон энергия превратилась во властолюбие; властолюбие, вскормленное лестью, — в черствость, жестокость, ненависть ко всякому, кто ей противоречит; когда она приказала казнить молодых мечтателей-студентов — я понял, что она уже не может вернуться к прежнему; что болезнь разрушила в ней все великое, благородное, прекрасное; что она никогда не станет просветительницей своего народа. Разве не должен я был тогда отказаться от своих обязанностей при ней? Служить Марии-Каролине — не значит ли это служить дурному делу?
Он удрученно покачал головой и повернулся, словно собираясь уйти.
Внезапно из своего угла вышел Нельсон. Взгляд его единственного глаза был страшен. Он тяжело дышал. Голос его звучал резко и язвительно.
— Что вы там говорите, Чирилло? Служить Марии-Каролине значит служить дурному делу? Ну а я, который ей служит, — что скажете вы обо мне?
Чирилло вздрогнул, откинул голову назад. Казалось, с его губ сейчас сорвутся жестокие слова.
Но уже через мгновение он смотрел на Нельсона спокойно.
— Вы, милорд? Вы служите своему отечеству.
Краска бросилась Нельсону в лицо.
— Я вас не понимаю. Не угодно ли вам говорить яснее? Или вы боитесь?
В глазах Чирилло зажегся огонь.
— Я не солдат, милорд. Не моряк, как вы. Но вам не кажется, что и врач должен обладать мужеством? Ну, хорошо. Служа Марии-Каролине, вы служите своему отечеству. И вы любите его, считаете его великим, просвещенным, прогрессивным. Оно свободно! Свободно! Идеал государства. Оно возвышается, подобно башне, над всеми нами, остальными, которые влачат свое существование в рабстве, невежестве, предрассудках. В вашем отечестве правит народ. Ваш парламент — образец для всех государственных учреждений. Вы с гордостью оглядываетесь на историю Англии, радуясь достигнутому. Называете неизбежностью то, что дорога к вашей свободе пролегла по трупам ваших королей; что деспотизм одиночек превратился в господство дворянства, а оно — в право граждан на полную самостоятельность. А мы, милорд, — разве не то же самое сделали и мы, но только без крови, когда воспользовались позорным бегством труса, чтобы избавиться от этой карикатуры на короля? Когда защищали нашу жизнь, нашу культуру от невежественных, алчных, жаждущих крови полчищ людей, которых к тому же все время подстрекали? И Англия все-таки называет нас якобинцами, безбожниками, предателями. Все-таки, служа Марии-Каролине, утверждает, что служит человечеству. Все-таки посылает своих свободных сыновей, чтобы удушить сынов Неаполя, стремящихся к той же свободе. Все-таки, служа Марии-Каролине, утверждает, что служит человечеству. Все-таки, милорд, все-таки! Может ли быть добром то, что убивает добро?
Он выкрикивал все это, пылал гневом. Стремительно, страстно, прервать его было невозможно. И наконец обессиленный, тяжело дыша, прислонился к стене.
— Извините, милорд, я увлекся. Я должен был подумать о том, что первейший долг офицера — следовать приказам своего отечества. Как я всегда верил, что должен слушаться приказов моего. Трагическая судьба распорядилась так, что мы оказались врагами, в то время как на самом деле мы должны быть братьями. Вычеркните из памяти мои неразумные слова. И думайте обо мне без гнева. Будьте здоровы, милорд. Будьте здоровы, миледи! Будьте здоровы.
Он простился с Эммой последним взглядом. Ушел.
Дверь за ним осталась полуоткрытой. И Эмма видела, как он протянул руки ожидающим его солдатам. Кандалы с лязганьем замкнулись.
Нельсон стоял неподвижно.
— Милый, — прошептала она. — Милый…
Поспешно подошла к нему, хотела прижаться.
Но он уже падал ей на руки, Начался приступ.
Глава тридцать четвертая
Неаполь вновь принадлежал Бурбонам. Первого августа флот праздновал годовщину победы при Абу-Кире, после чего Нельсон с королем, Актоном, Эммой и сэром Уильямом возвратился на «Фоудройанте» в Палермо.
Торжественно встреченный, Фердинанд въехал в город. Отправился на праздничное богослужение в собор, предстал перед своим ликующим народом.
«Спасителям Бурбонов» была выражена королевская благодарность. Нельсон был удостоен титула герцога Бронте[67]. Получил богатое имение и годовую ренту в 18 000 дукатов. Ему был подарен украшенный бриллиантами меч, который Карл III некогда вручил своему сыну вместе с троном Неаполя. Сэру Уильяму Фердинанд подарил свой портрет в раме, усыпанной драгоценными камнями. Мария-Каролина возложила на шею Эммы драгоценную золотую цепь, на которой висел портрет дарительницы. Оправа портрета была из превосходных бриллиантов и, искусно подобранные, они составили надпись «Eterna gratitudine» (вечная благодарность). И дабы возместить Эмме туалеты, брошенные ею при поспешном бегстве в палаццо Сесса, королева послала ей полный гардероб — шелковые платья, обшитое кружевами белье, шляпы, обувь, шали.
Праздники следовали за праздниками. Увеселительные прогулки по воде и на суше, охота, балы, ночные набеги на пристанища простонародья в порту, маскарады, игра, попойки.
Не хотелось ли Нельсону швырнуть этих пловцов обратно в море, отогнать эти лица, заставить эти голоса умолкнуть?
Он, прежде находивший тщеславное удовлетворение в том, что его, британского офицера, выделяет из шумной толпы этих необузданных итальянцев сдержанность и присущая мужчине серьезность, теперь вел себя, как они. Бросился в водоворот развлечений, не думал о своих обязанностях, требовавших его усилий; отдавался удовольствиям везде, где только их находил, без разбора.
Эмма должна была постоянно сопровождать его. Как когда-то сэр Джон Уиллет-Пейн, он тащил ее от одного развлечения к другому. Когда она уставала, он громко смеялся. Будил ее, если она засыпала в его объятиях. Был ненасытен, измышляя все новые поцелуи, новые ласки.
Все, чего со времен Кастелламаре достигла Эмма благодаря своему искусству, воспринятому от доктора Грэхема, достигла с помощью мягких прикосновений рук, с помощью спокойной неясности, все это было утрачено.
Снова начались припадки.
Однако теперь их вызывал уже не страх. Подобные карающим мстителям, они порождались чрезмерностью наслаждений.
И тем не менее Нельсон непрестанно множил наслаждения, словно хотел парализовать свой мозг и тем продлить дурманящее действие игры, объятий, опьянения.
Его друзья, офицеры флота, его товарищи по оружию в былых боях, с тревогой следили за переменами в его поведении. Просили Эмму уговорить его изменить образ жизни.
Они, наверно, думали, что она его подстрекает. В то время как это он, не слушая ее горячих просьб, все снова и снова бросался в пьянящий вихрь и увлекал за собой Эмму.
Наконец, уповая на старую боевую дружбу, Трубридж отважился сам с матросской простотой обратиться к Нельсону.
«Милорд! Простите меня, но писать Вам заставляет меня мое искреннее уважение к Вам. Я опасаюсь, что Ваше здоровье страдает от празднеств в Палермо. Если это так, то флот проклянет всех святых этой страны.
Я знаю, что Вам не может доставить удовольствие просиживать все ночи за карточным столом. А тогда зачем же приносить все — здоровье, радости, деньги, покой — в жертву нравам страны, в которой Вы вовсе не намерены остаться?
Вы не имеете понятия и о половине того, что здесь происходит, так же как и о тех толках, которые этим вызваны. Если бы Вы знали, что чувствуют из-за Вас Ваши друзья, Вы бы, несомненно, отказались от всех этих ночных сборищ…»
Подействовало ли это предостережение, но только Нельсон внезапно все прекратил и на «Фоудройанте» покинул Палермо. После переговоров с лордом Кейтом он взял курс на Мальту и приступил к активным военным действиям, стремясь захватить остров, все еще занятый французами.
И все-таки Эмму не радовало это благое решение. Все его письма говорили об отвращении к жизни, о мрачных мыслях, о смерти.
В Неаполе вершил дела Спечале.
В связи с огромным количеством жертв он нашел слишком высокой ту цену в шесть дукатов, которую потребовал Томмазо Парадизо, палач, за каждую казнь. Ему назначили сто дукатов в месяц, дав гарантию на год, и разрешили расходы наличными ставить в счет особо.
Затем начался процесс.
Требовалось осудить на изгнание, на смерть всех, кто письменно или устно распространял что-либо порочащее короля, королевскую семью, религию; каждого, кто стал богоотступником уже по одному тому, что не воспротивился злодеяниям республики.
Было разрешено применение пыток. Защитников на процесс не допустили. Апелляции не принимались. Еженедельно по четвергам выносили приговор, по пятницам его сообщали осужденным, по субботам совершалась казнь.
Четырнадцатого августа пошел на смерть генерал Оронцио Масса из рода герцогов Галиньяни, подписавший капитуляцию Кастель Нуово. Шестью днями позже — Элеонора Фонсека де Пиментель, поэтесса; Габриеле Натале, епископ; князь Колонна; герцог Кассано…
Двадцать девятого октября — Доменико Чирилло, законодатель, врач, всемирно известный автор науки о пульсе.
Были казнены художники, поэты, писатели.
Ученые, проповедники, учителя. Офицеры, купцы, чиновники. Умирал цвет искусства, науки, дворянства. Умирало все, что возвышалось в садах итальянского рая, было зелено и полно сил.

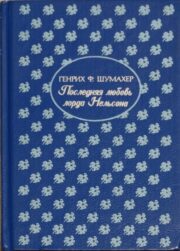
"Последняя любовь лорда Нельсона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Последняя любовь лорда Нельсона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Последняя любовь лорда Нельсона" друзьям в соцсетях.