– Я могу вынести шутку, – произнесла Лидия. – Я ведь вышла за тебя замуж, верно? – Она отставила свой почти опустевший бокал и встала. – Мы не можем держать леди Дейн на ногах всю ночь. Будущим матерям требуется приемлемое количество сна.
Леди Дейн поднялась.
– Нам едва ли выпал благоприятный случай поговорить. Никто не может надеяться вести разумную беседу в присутствии двух шумных самцов, спорящих за превосходство. Вы должны вернуться с нами в Аткорт завтра.
– Конечно, вы должны, – подхватил Дейн. – В конце концов, это же родовое гнездо.
– У меня тоже имеется родовое гнездо. – Эйнсвуд по-хозяйски обнял Лидию за плечи. – Она только твоя кузина, да и то дальняя. И сейчас она Мэллори, а не Баллистер, не важно, чем ее там пометили…
– Возможно, в другой раз, – учтиво вмешалась Лидия. – Нам с Эйнсвудом нужно уладить одно важное дело – и мне нужно закончить работу для «Аргуса», которую…
– Да, как ты сказала, еще есть важное дело, которое нужно уладить, – сказал ее супруг напряженным тоном.
Он спешно пожелал спокойной ночи, и они уже было отправились к своей спальне, когда леди Дейн окликнула их. Они задержались. Леди Дейн догнала их, сунула небольшой удлиненный сверток в руки Лидии, поцеловала ее в щеку, затем быстро удалилась.
Лидия подождала, пока они не войдут в свою комнату, и развязала сверток.
И издала короткий испуганный всхлип.
Она услышала встревоженный голос Эйнсвуда:
– Милостивый Боже, что они…
И она очутилась в его сильных, теплых, надежных объятиях.
– Дневник моей мамы.
Слова прозвучали глухо в складках его халата.
– Они вернули мне дневник мамы.
Голос ее сорвался, а с ним рухнуло и все ее хладнокровие, которое она так решительно сохраняла в присутствии своей новоприобретенной семьи.
Уткнувшись лицом в грудь мужа, она зарыдала.
Глава 14
Дневник Энн Баллистер
Я едва могу поверить, что наступил мой девятнадцатый день рождения. Кажется, миновало лет двадцать, как я оставила отчий дом, а не двадцать месяцев.
Интересно, помнит ли отец, какой сегодня день? Он и его кузен лорд Дейн по обоюдному согласию вычеркнули мое существование из своих жизней всеми доступными средствами, исключая разве что убийство. Но стереть память не столь легко, как имя в семейной библии. Не составляет труда ввести за правило, чтобы больше никогда не упоминалось имя дочери; все же память не подчиняется воле, даже память Баллистеров, имя и образ настойчиво хранятся еще долго после смерти, буквальной или фигуральной.
Я жива, отец, и хотя, да, твое желание чуть не осуществилось, когда родилась моя дорогая малышка. У меня не имелось дорогого лондонского акушера, чтобы наблюдать за родами, а рядом была простая женщина не старше меня, родившая уже троих детей, и снова пребывавшая на сносях. Когда придет время рожать Эллис Мартин, я отблагодарю ее тем, что тоже сыграю роль повитухи.
Настоящее чудо, что я выжила после родовой горячки – с этим дружно согласились все сведущие матроны нашего скромного прихода. Я же со своей стороны знаю, что сие было вовсе не чудом, а следствием одной лишь моей силы воли. Не могла я покориться Господу, как бы сильно он не настаивал. Я ни за что бы не оставила свою малышку лживому себялюбцу, за которого вышла замуж.
Нисколько не сомневаюсь, что сейчас Джон сожалеет, что мы обе, Лидия и я, выжили. Он вынужден принять выпавшую ему любую роль, какой бы незначительной и маленькой она не была, и заставить себя испытывать отмеренное ему судьбой. Я устроила так, что его заработки попадают прямо в мои руки. С другой стороны, каждый фартинг его маленького дохода потратился бы на пьянки, женщин и карточную игру, а моя Лидия голодала бы. Он горько жалуется, что я лишаю смысла его существование, и проклинает тот день, когда он решил завоевать мое сердце.
Со своей стороны, мне до глубины души стыдно, что он преуспел, и я оказалась такой совершенной дурочкой. Однако же, я ведь была несмышленой девочкой, когда сбежала из дома. Хотя моя родня принадлежала лишь к незначительной младшей ветви рода Баллистеров, меня баловали и пестовали, как какую-то дочь герцога, и в результате воспитали не менее наивной. Для красивого и сладкоречивого повесы, вроде Джона Гренвилла, я была слишком легкой мишенью. Как мне удалось бы распознать, что его волнующие речи и слезные объяснения в любви всего лишь… актерская игра?
Однако же мудрости ему не хватило. Он смотрел на меня, как на билет, призванный обеспечить бы ему жизнь в богатстве и без забот. Он верил, что понимает английскую аристократию, поскольку воплощал дворян на сцене. Ему было невдомек, что такая гордая семья, как Баллистеры, скорее бросят в нищете и упадке дочь, не знавшую ни дня забот в свои семнадцать с половиной лет. Он воистину верил, что они примут его: человека, которого ни в какой степени нельзя наградить титулом «джентльмен» и приумножившему свою дурную славу принадлежностью к недостойной породе, отмеченной актерским ремеслом.
Знай я о заблуждениях Джона, мне следовало бы его просветить, хотя сама я была сбита с толку и невежественна. Но я предполагала, что он понимает, как и я, что мое тайное бегство порвет все связи с Баллистерами, воссоединение невозможно, и мы должны будем следовать своим путем.
Я довольствовалась бы малым, живя с ним в шалаше, столько, сколько потребуется, мысли мы одинаково и прилагая общие усилия улучшить нашу судьбу. Но труд незнаком его природе. Сейчас я сожалею, что меня не учили выгодной торговле. Мои соседи платят мне за то, что я пишу за них письма – здесь едва ли найдется хоть один, способный накарябать свое собственное имя. Еще я понемножку шью. Но с иголкой я обращаюсь не очень искусно, а кто поблизости может позволить себе, не говоря уже о понимании значения этого слова, гувернантку? Кроме случайно то тут, то там перепадающих грошей, я целиком завишу от Джона.
Тут я должна остановиться – да и в добрый час, поскольку вижу, что написала мало чего, кроме сожалений. Лидия зашевелилась во сне, скоро начнет лепетать сама с собой на смешном младенческом языке. Мне бы следовало вместо того написать о ней, какая она красавица и умница. Какой у нее ангельский характер – она чудо и само совершенство среди младенцев. Как я могу сожалеть о чем-то, когда у меня есть она?
Да, сладкая, я слышу тебя. Мама идет.
Лидия сделала паузу в конце первого вступления, поскольку ей снова отказало самообладание, голос задрожал и сорвался на высокие ноты. Она сидела на кровати, опершись спиной на подушки. Их подставил Эйнсвуд. Он также придвинул к постели столик, собрав и расставив на нем большую часть имевшихся в спальне свечей, чтобы ей было лучше видно.
Сам же Эйнсвуд стоял у окна, глядя во двор. Когда она стала читать вслух, он, удивившись, обернулся и взглянул на нее. Лидия тоже изумилась, когда осознала, что делает.
Лидия торопливо продолжила чтение про себя, молча переворачивая страницы и скользя по ним взглядом. С жадностью глотая слова, которые она читала давным-давно, с трудом тогда понимая, и сейчас уже еле-еле помнив их. Фразы выстраивались, не потому что она помнила слова, а потому что ее увлекла манера речи родной матери. Она будто слышала голос мамы так же ясно, как временами другие голоса звучали в ее ушах, хотя говоривших не было и в помине рядом. Лидия только открывала рот, а ее голос становился чьим-то голосом. Она не пыталась делать это преднамеренно. Просто так случалось.
И посему она, должно быть, на время забыла об Эйнсвуде или слишком погрузилась в прошлое, чтобы думать о настоящем. Успокоенная и уверенная, что она, эта маленькая история была вся здесь, Лидия вернулась к первой странице и стала читать снова, сопровождаемая голосом, потерянным для нее так много лет назад и вернувшимся сейчас – неожиданный дар, обретение вновь сокровища, которое она считала навеки сгинувшим.
Да, сладкая, я слышу тебя. Мама идет.
И она всегда слышала, всегда приходила. Сейчас как наяву Лидия отчетливо все вспоминала. Ее мама бы поняла, что чувствовала Мэри Баттлз к своему ребеночку: чистую, сильную и непоколебимую любовь. Лидия знала: такая любовь существует. Она сама жила в этом самом безопасном на свете убежище, любви ее мамы, десять лет.
У Лидии перехватило горло. Она уже не могла различить слов сквозь пелену, застлавшую глаза.
Потом Лидия услышала, как подошел Эйнсвуд, почувствовала, как прогнулся тюфяк, когда он забрался на постель.
– Боже, что за дурацкий способ так провести твою б-брачную ночь, – дрожащим голосом произнесла она. – Слушать тут мои р-рыдания…
– Тебе дозволяется проявлять человечность время от времени, – заверил он. – Или у Баллистеров против того существует закон?
Рядом с ней под боком примостилось теплое мужское тело, мускулистая рука Эйнсвуда скользнула ей за спину и притянула поближе. Лидия понимала, что это не сравнимо с «самым безопасным на свете убежищем», хотя на секунду так показалось. И она решила: великого вреда не приключится, если притвориться, что так оно и есть.
– Она души во мне не чаяла, – поделилась с ним Лидия, не отрывая затуманенного взгляда от страницы.
– А как же иначе? – подхватил он. – В своей собственной чудовищной манере ты очаровательна. К тому же сама будучи из рода Баллистеров, она могла оценить даже самую ужасающую твою черту характера, на что не был бы способен какой-нибудь сторонний наблюдатель. Так же, как смог и Дейн. Кажется, он не верит, что с тобой что-то не так.
Эйнсвуд изложил последнее со скорбным изумлением, как будто впредь его друга следует рассматривать признанным сумасшедшим.

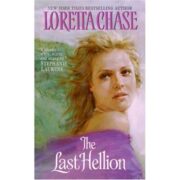
"Последний негодник" отзывы
Отзывы читателей о книге "Последний негодник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Последний негодник" друзьям в соцсетях.