Работы оказалось больше, чем я думал. «Фуфел» и в самом деле «понарисовал» — почти везде внес изменения, но особенно в туалеты.
После чая я сел за работу. Глинская ушла в дальний угол комнаты.
— Итак, роль Марины в блокадный период мы выяснили, — неторопливо продолжала она, забравшись в кресло и сцепив пальцы на колене. — Что нам это дает?
— Ничего, — предположил я.
— Нет, дает. Ведь со своим «агу» она не могла существовать автономно.
— Ее мать! — догадался я.
— Точно! Теперь мы выявили автономию: мать — дочь. Дочь отбрасывается. Остается мать! Итак, мать во время блокады работала в госпитале. И на этот госпиталь мы и должны перенести самое пристальное внимание. И рассмотреть: что же там могло случиться?
— Все, что угодно, — зевнул я. — Кто же знает…
— Смотри, — перебила Глинская. — В этот госпиталь попадали вначале только военные, а потом все подряд. То есть мирные жители славного града святого Петра. Так? Какими они туда попадали? Сытыми и здоровыми? Нет! Больными и голодными. Мотаешь на ус?
— Мотаю. — Мне было трудно гнаться за двумя зайцами — рисовать и кумекать про какой-то госпиталь.
— А в состоянии болезни и голода человек готов отдать все за насыщение и исцеление. — Глинская, мечтательно запрокинув голову, глядела на тени на потолке. — Моя бабка, между прочим, тоже блокадница. Такие кошмары рассказывала!
— Может, ты и к фонду имеешь отношение? — пошутил я.
— А чем плох фонд? — усмехнулась Глинская. — Вот ты, скажем, на что убьешь эту прекрасную ночь? На угождение холопским претензиям! А на что ты вообще тратишь свою жизнь? Да на то же самое! У тебя талант. Ты всю жизнь учился. И для чего? Чтобы послушно вставать в стойку «что угодно» перед очередным быдлом?! Да они все, вместе взятые, не стоят твоего мизинца!
— Что ты предлагаешь?
— Себя… Я давно собиралась тебе сказать… — вдруг быстро заговорила она, — ты нужен мне. А не им! Я больше не могу с тобой расставаться! Не могу… Что ты молчишь? Говори же! Я молчал.
— Мы не расстанемся больше? Ну скажи — нет. Скажи!.. — молила она.
— Не надо сейчас об этом, Аня… — попросил я.
Глинская вновь откинулась в кресле и медленно себе самой сказала:
И голос был сладок, и луч был тонок,
Но только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
— Нет, Саша, ты мой! — спокойно добавила она. — И только мой! Ты сам поймешь это. Я нужна тебе.
— Ань!
— Помнишь, я рассказывала тебе, что у меня бывает много дел интимного характера? Жена ревнует мужа, муж — жену? Так вот, я убедилась вполне, что люди всегда сходятся и живут с людьми случайными, ненужными. Отсюда вся эта глупая ревность, вообще — неудовлетворенность. И они просто срывают зло друг на друге. А мы будем вместе…
Глинская свернулась с ногами в кресле и затихла.
Кончилась ночь. Глинская уехала на «Черную речку». Я доделал и отослал проект. Губанов сразу перезвонил:
— Спасибо, Алексан Василич. Ты только сейчас не отходи от телефона. Я мигом! Он уже звонил! Блиномес этот…
Я прошелся по квартире, разминая затекшую спину. Потом прилег на неразобранную постель, положив телефон рядом на подушку, и уснул.
Разбудила меня веселая губановская трель.
— Подписал пока! Ну, Алексан Василич, скорее теперь приезжай! Макар ходит как туча и про тебя спрашивает. Я сказал, что ты уже в пути.
— К вечеру буду, — бросил я и стал собираться в дорогу.
Перед отъездом мне хотелось хотя бы услышать голос Лизы.
— Через час мы идем в Русский музей, — тихо вздохнула она.
Успею заехать к себе в гостиницу, потом в музей, решил я. А оттуда сразу на вокзал.
Я поспешно оделся и быстро подошел к запертой входной двери. Черт! Совсем забыл! Кинулся звонить Глинской.
— Сейчас буду, — лаконично ответила она.
Я сел в коридоре и начал ждать.
Глинская явилась, когда я уже перестал надеяться — через полчаса.
— Ты куда?
— В Русский музей!
— К чему такая спешка? Поедим и вместе сходим, — объявила она, закрывая дверь.
— Нет. Оттуда я сразу — в Москву.
— Подожди. Послушай, что я узнала. Пойдем…
На кухне она не спеша поставила чайник, выложила свертки с продуктами.
— Я спешу на поезд!
— Во сколько же он отходит? — ехидно поинтересовалась Глинская.
— Я ребят еще хотел проведать.
— Вот про ребят и слушай. — Она метнула на стол, как игральную карту, Гришкину фотографию. — С этой фоткой я обошла всех Марининых соседей. И никто ничего… Я уже собралась уходить, спустилась вниз. А там бабуля газетку вынимает из ящика. Я ей фотку… И представляешь? Она видела нашего Гришуню несколько раз этим летом, когда на лавочке у подъезда сидела. К кому Гришуня ходил, она, впрочем, не знает. Но тут уж легко догадаться.
— Значит, — сообразил я, — его двойник посещал Марину. И она ему, то есть Гришке…
— …оставила завещание, — кивнула Глинская.
Я выскочил из квартиры.
Глава 18
Мы уже третий день жили в Петербурге. Вечерами ходили в театры, ужинали в ресторане гостиницы и где-то в начале второго возвращались к себе. В общем, действовали согласно инструкции, которую я получила вскоре по приезде. У стойки портье со мной заговорил худой невзрачный мужчина лет пятидесяти. В его тоне улавливалось недовольство и даже угроза:
— Нечего в номере отсиживаться!
— Мы только ночью приехали, устали.
— Ты здесь не на отдыхе! — Серые глаза блеснули крещенским холодом. — В музей сейчас идите.
— В какой?
— Музеев тут до… — Он выругался. — Вечером в клуб ночной или в ресторан.
— Зачем? — решилась уточнить я.
— Чё зачем? Зачем люди в ресторан ходят?!
— И все? Только за этим?
— Пока за этим. Дальше — узнаешь! Делай что говорят!
Дослушав его речь, я вышла из гостиницы. Гришка ждал у подъезда.
— Сейчас в музей пойдем!
— Пойдем. — Он очень обрадовался. — А в какой? Пойдем в Русский музей!
— В Эрмитаж! — распорядилась я, сдерживаясь из последних сил. Мне было безразлично, куда идти, но эта его детская радость… эта непосредственность в сочетании с дурацкой беспомощностью… Неужели он не видит, до чего раздражает меня?! — Ты слышишь, мы идем в Эрмитаж!
— В Эрмитаж тоже подходит, — отозвался Гришка.
— А вечером в ночной бар со стриптизом! — Мне захотелось испортить ему настроение.
— Ну, если ты так хочешь…
В забегаловке на углу Невского мы сжевали по холодной котлете и выпили по чашке коричневатой бурды, гордо названной в меню «кофе», а в действительности не имеющей к этому благородному напитку ни малейшего отношения, и отправились на поиски Эрмитажа.
Нашли-то мы его без особых проблем, только дальше-то что? Даже в это постпраздничное время нам целых полчаса пришлось стоять в очереди на холодном ветру. Я озверела окончательно.
Хорошо бы сейчас оказаться в номере, полежать на широкой двуспальной кровати. Никогда у меня не было такой, а в последнее время я вообще ютилась на кушетке в кухне! В отеле Гришка уступил мне спальню, а сам обосновался в гостиной.
Истинный джентльмен! Я с досадой взглянула на спутника, но тот не обращал на меня внимания…
Да, хорошо бы поваляться в номере, почитать Ольгин роман про крашеные губки. Вчера в поезде я открыла журнал наугад и неожиданно увлеклась, зачиталась… Это было какое-то странное, завораживающее произведение. Вроде как и не роман в традиционном понимании — живая ткань из писем, хроник, записных книжек, фотоальбомов. Но именно из таких вещей ведь и складывается жизнь. Настоящая жизнь, полная неосуществленных намерений, обмолвок, недосказанных фраз, тщательно скрываемых поступков… Этой жизнью дохнуло на меня со страниц романа. Хотелось читать и читать. А надо развлекать Гришку и еще мелькать на людях, как выразился хмурый мужик из гостиницы.
Мы переходили из зала в зал мимо аккуратно прописанных лиц, интерьеров, пейзажей — остановленных мгновений жизни, которая после остановки переставала быть настоящей. Что может испытать нормальный человек, оказавшись в средоточении ненастоящей жизни, в параллельном мире — среди красиво и талантливо сделанных копий реальности? Мне казалось, я попала в западню. Так и буду кружить в этом царстве теней, как несчастная Эвридика, как Алиса в Зазеркалье. Но может, так мне и надо? Я сама добровольно (или почти добровольно) избрала для себя фальшивую жизнь. Причем гораздо раньше, чем переехала в конспиративную квартиру. В тот момент, когда согласилась сотрудничать с Карташовым. Все эти ужасы стали расплатой за малодушие и слабость! Господи!
— Лиза!
Я стояла на галерее между какими-то двумя мадоннами и смотрела в окно.
— Лиза, Рафаэль! — У Гришки на лице читалось детское, ничем не омраченное блаженство.
Да, Рафаэль. «Мадонна Конестабиле». Я сделала усилие и взглянула на полотно.
У Мадонны был правильный овал лица, а темные глаза смотрели проникновенно и чуть лукаво. Никакая она не Мадонна! Обыкновенная молодая женщина, у которой к тому же есть тайна. Плохая или хорошая? Я задумчиво разглядывала картину, но тут Гришка, взяв меня за локоть, отвел в сторону. К картине подошла группа экскурсантов.
— Кульминационным пунктом картины является лицо Богоматери. — Моложавая, в глухом черном пиджаке дама рассказывала веско и монотонно. — Окутанное легкой воздушной дымкой, лицо излучает бесконечную материнскую нежность и любовь…
«Почему материнскую? — Я внутренне спорила с экскурсоводшей. — Ее лицо излучает любовь к жизни вообще. К настоящей жизни. К той жизни, которая за окном… к той, которую вы перестали ощущать в своем параллельном мире».

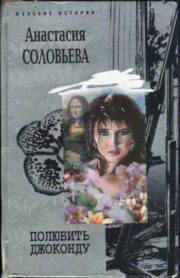
"Полюбить Джоконду" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полюбить Джоконду". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полюбить Джоконду" друзьям в соцсетях.