Она замотала головой и, чтоб скрыть вдруг нахлынувшие слезы, отвернулась к забору.
— Я собирался прийти к вам вчера, но почему-то все ждал, что вы сама ко мне придете. Не за утешением, разумеется. Вам ведь не нужны утешения, верно?
Она не ответила, сидела все так же отвернувшись. Подумала: все-таки ей нужно утешение. Очень нужно. Пускай кто-то по-настоящему умный и сильный духом скажет, что ее жизнь еще не кончена, что впереди ее ждут радости.
— Вы, наверное, помните, что в сказках, старых и новых, добро всегда торжествует над злом. Об этом знают даже дети. Кстати, они знают и о том, что герой, отстаивающий добро и справедливость, должен быть умным, сильным, ловким. Иначе не выйти ему победителем в жестокой схватке. К сожалению, и в наше время зло, несправедливость и прочие пережитки еще не стали музейными экспонатами, так что иной раз нам с вами приходится с ними сражаться. Вы со мной согласны?
Оля глядела на него, утирая слезы.
— Мне было лет немного поменьше, чем вам, когда я, ожидая в Новороссийске парохода, которому суждено было надолго разлучить меня с родиной, пытался решить для себя проблему: должен ли я вступить в борьбу со злом, раздиравшим на части голодную и холодную Россию, или наблюдать за этой борьбой из безопасного далека. Я думал: пусть те, кто затеял эту заваруху, сами и разбираются, я же — музыкант и должен быть верен своему призванию. А какой-то тайный голос нашептывал мне: «Ты прежде всего российский сын. Твоя родная земля стонет, обливается кровью. Защити ее от врага». И я уже решился было остаться… Но тут подошел английский пароход, и все как одержимые бросились на причал. Я смешался с толпой этих несчастных людей, не в силах противостоять ее воле… Я по сей день расплачиваюсь за собственное малодушие. И нет и не будет мне за него прощения. Конечно, мою вину с вашей не сравнить, но ведь сейчас и время иное.
— В чем же моя вина, Василий Андреевич? — спросила Оля.
— В том, что вы позволили Кудрявцевой безнаказанно вершить зло. В том, что смирились с победой зла. В результате пострадали прежде всего ваши студенты — и не только потому, что лишились отличного педагога. Учебную программу в конце концов можно наверстать, но вот тот моральный урон, который вы нанесли им своим бегством, пожалуй, уже и не возместишь.
— Что же я, по-вашему, должна была делать? Вернее, каким образом? Попросить у Кудрявцевой прощения?
— Ольга Александровна, голубушка, я просто удивляюсь вашей… наивности. Других слов в данном случае не подберешь. — Акулов всем корпусом подался к ней. — Неужели вы забыли одну простую вещь: пассивное добро — это то же зло, только наизнанку. Вы скажете: старик впал в маразм, твердит банальные вещи. И вы будете правы, ибо истина всегда банальна.
Акулов встал, заходил взад-вперед по дорожке, сердито вороша своей палкой прошлогодние листья.
— Беда вашего поколения в том, что родители с детства оберегают вас от всяческих несправедливостей, а иной раз даже внушают, что наш мир справедлив. Вы же, столкнувшись в вашей самостоятельной жизни с несправедливостями, не знаете, как поступить, а потому предпочитаете уйти в сторону, переждать бурю, найти обманчивый покой. А вот ваш студент Лукьянов оказался стойким молодым человеком. Мы с ним уже успели кое-что предпринять, пока вы тут предавались поискам призрачного покоя и жестокому самоанализу. Согласен, замечательное это свойство — уметь обстоятельно и трезво анализировать свои поступки, но только не в критический момент, когда нужно стремительно действовать.
Акулов посмотрел Оле в глаза.
— Ольга Александровна, вы ведь обладаете не только талантом музыканта, но и куда более ценным даром — притягивать к себе людей. Посмотрите, скольких вы вывели из состояния спячки. Люди потянулись к вам, доверились вашему человеческому обаянию. А вы их разочаровали.
Оля встала, больше не в силах сдерживать слезы, прислонилась к шершавому стволу груши и прижала платок к глазам.
— Догадываюсь, голубушка, скорбит ваша душа по чему-то несбывшемуся, а тут я со своими проповедями. Но, как бы вам ни было худо сейчас, верьте мне: будут в вашей жизни и счастье, и любовь. — Акулов поцеловал ее измазанную землей руку. — И, прошу вас, не забывайте о том, что у вас есть друзья. И не разочаровывайте меня, старика. Сами знаете, как тяжело жить без идеала в душе. Ну а сейчас утрите слезы, и пошли вершить дела.
«Милая Татуша!
Ты, конечно же, догадываешься о причине моего долгого молчания. Надеюсь, тебе не надо объяснять, как долго приходила я в себя после твоего последнего письма. До сих пор сердце в пятки уходит, когда увижу нашу почтальоншу, хотя, казалось бы, страшней известия мне уже и не получить. Помнишь старую русскую пословицу о том, что беда в одиночку не ходит? Вот и на меня в тот самый день, который я прозвала Днем Письма, обрушилось несколько бед, от которых я и по сей день не совсем отошла. О них я расскажу тебе в другой раз. Скажу только, что сейчас многое уже позади, и я начинаю постепенно выходить из оцепенения, почти как прежде радоваться жизни и вот уже несколько вечеров подряд остаюсь в училище заниматься. Что касается Зловредной Инессы, то поверженных осуждать негоже, а она, судя по всему, доживает в директорском кресле последние дни. Знаешь, если начистоту, нет у меня на нее настоящей злости — я тоже подчас слишком бравировала своей независимостью, чем подрывала основы ее незыблемого авторитета. Беднягу можно понять.
Видишь, я уже делаю робкие шаги на поприще юмора — это чтоб к слезам не возвращаться. И все равно, дорогая Танечка, я, можно сказать, счастлива вопреки всему. Такой уж я от рождения безнадежный оптимист. И хотя внешних изменений в моей жизни не намечается, внутри начинают брать верх светлые силы.
Валерка явно что-то задумал. Баба Галя уверена, что это я расстроила его свадьбу со Светланой. (Как ты думаешь, во мне на самом деле есть что-то роковое?) «Ты, девка, такого жениха упустила — на руках бы тебя носил», — сказала она вчера. Думаю, она права, но мне пока этого не нужно. К Валерке я испытываю нежность, благодарность. Если бы не его здоровый провинциальный юмор, я бы, наверное, давно свихнулась. О Валерке у нас с тобой еще будет особый разговор. Хотя, поверь, то, что я к нему испытываю, на любовь в привычном смысле этого слова не похоже…»
Баба Галя впервые в этом году собрала на стол под старой грушей. Жужжали пчелы, деловито облетая большой домашний кулич, густо посыпанный разноцветным крашеным пшеном. Баба Галя отгоняла их полотенцем. Сердито прожужжав над ухом, они взмывали вверх, вливаясь в общий гул весеннего оркестра.
Соседка Егоровна, худосочная, с глубоко запавшими глазами-угольками женщина, уже успела отведать и крашенных в темно-луковый и синьковый цвета яиц, и жареной курятины, запив угощение несколькими стаканчиками ладанного, и теперь млела на солнышке, подставив его лучам щуплое тело.
— Смотри, Егоровна, как бы тебя удар с непривычки не хватил, — предупредила баба Галя. — Оно сейчас обманчиво — будто и не сильно жарко, а до самого сердца достает. Дай-ка я тебе Петькину шляпу принесу.
— Не бойся, Семеновна. У меня кожа сухая да толстая — не больно ее прогреешь. Оле казалось, будто в ее последнее время перенасыщенной событиями жизни наступила пауза. Она потом решит, остаться ей здесь или уехать в Москву — ей порой так хочется побродить арбатскими переулками, где когда-то они гуляли с Ильей. Еще ей предстоит решить, нужен ли ей Илья на самом деле или же это всего лишь воспоминания о первом чувстве… Ну а сейчас она будет слушать пчелиный гул, густой и вязкий, как сам мед, наслаждаться казачьей песней, которую затянули в соседнем дворе, и наблюдать, как на голубом, еще совсем светлом майском небе медленно проявляется серп молодого месяца.
Егоровна задремала, склонив набок голову. Баба Галя все-таки нахлобучила на нее старую соломенную шляпу с выцветшей ленточкой.
— Я, наверное, тоже сосну, — сказала она, накрывая кулич большой кастрюлей, чтоб не заветрил. — Ежели ты, Ольга, куда соберешься, прикрой сверху клеенкой, чтобы куры не нашкодили. Может, еще кто заглянет.
…Оле показалось, будто ее окликнули от забора. Она подошла к калитке. Никого. Лишь шарахнулся в кусты крыжовника черный Ибрагим, подстерегающий самых бесстрашных скворцов.
Оля откинула крючок и выглянула в проулок, куда выходили дворы. Возле соседского забора стоял Петр с авоськой в руке, из которой торчало горлышко бутылки и концы длинных, как палки, парниковых огурцов.
— Поди-ка сюда, — позвал он Олю, переминаясь с ноги на ногу. — Ну, и чего у вас нового? Замуж еще не выскочила?
Он переложил авоську в левую руку.
Оля покачала головой и протянула Петру руку. Он суетливо пожал ее и, обернувшись несколько раз на светлое женское платье, маячившее неподалеку, побрел к калитке.
— Хм, а это что за чучело под старым лопухом? — с добродушной ухмылкой спросил Петр, указывая пальцем на дремавшую Егоровну. — Видать, от души разговелась бабка. Гляди-ка, а у вас чисто во дворе. Ну и ну!
Петр поставил бутылку на стол, авоську с огурцами повесил на сухой сучок груши.
— А мать где? — как показалось Оле, с опаской спросил он.
— Прилегла вздремнуть. Позвать?
— Нет, нет, не зови! — Петр замахал обеими руками. — Мы сперва сами спрыснем нашу встречу. Вон и тетка идет. Иди сюда, не бойся — мы не кусаемся.
Алевтина осторожно прикрыла за собой калитку и засеменила по тропинке на своих высоких каблуках.
Петр подмигнул Оле.
— Видишь, какая она у меня гладкая. Ну садись, садись, тетка, сейчас мы пригубим по случаю праздника.
Он откупорил бутылку и плеснул в стаканы.
— А и ты, бабка, хочешь? — Петр подвинул стакан к шевельнувшейся во сне Егоровне. — Пей, пей, сегодня Бог все грехи прощает.

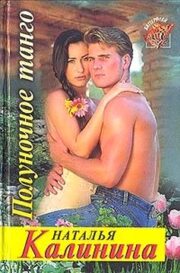
"Полуночное танго" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полуночное танго". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полуночное танго" друзьям в соцсетях.