— Успокойся, — сказал я, — величайшая из опасностей твоих теперь прошла, благодаренье Небу, которое покровительствует тебе. Возвратись в свою комнату, молись, как юная душа должна молиться: молитва рассеивает страхи и осушает слезы… Иди!
Габриель обняла меня и вышла. Мать моя следовала за нею глазами с беспокойством; потом, когда дверь затворилась:
— Что все это значит? — сказала она.
— Это значит, матушка, — отвечал я почтительным, но твердым голосом, — что супружество, о котором вы писали мне, невозможно и что Габриель не будет женою графа.
— Но я дала уже почти слово, — сказала мать моя.
— Я возьму его назад.
— Но наконец, скажешь ли ты мне почему… без всякой причины?..
— Неужели вы считаете меня таким безумцем, — прервал я, — который способен разрушить вещи, столь священные, как данное слово, если бы не имел причин?
— Но, верно, ты скажешь их мне?
— Невозможно! Невозможно! Матушка, я связан клятвою.
— Я знаю, что многое говорили против Горация, но ничего не могли еще доказать. Неужели ты веришь всем этим клеветам?
— Я верю глазам своим, матушка, — я видел.
— О!..
— Послушайте. Вы знаете, люблю ли я вас и сестру свою; вы знаете, что, когда дело идет о счастии вас обеих, я легко готов принять твердое решение; вы знаете, наконец, что в обстоятельстве, столь важном, я не способен пугать вас ложью. Да, матушка, клянусь вам, что если бы это супружество совершилось, если бы я приехал не вовремя, если бы Габриель называлась в этот час графинею Безеваль, тогда бы не осталось мне ничего более сделать — и я сделал бы, поверьте мне, — как похитить вас и дочь вашу, бежать из Франции с вами, чтобы никогда в нее не возвращаться.
— Но не можешь ли ты сказать мне?..
— Ничего… я дал клятву. Если бы я мог говорить, мне достаточно было бы произнести одно слово — и сестра моя была бы спасена.
— Итак, ей угрожает какая-нибудь опасность?
— Нет! По крайней мере, пока я жив.
— Боже мой! Боже мой! — сказала мать моя, — ты приводишь меня в трепет.
Я увидел, что позволил себе увлечься против воли.
— Послушайте, — продолжил я, — может быть, все это не столь важно, как я боюсь. Ничего не было еще положительно окончено между вами и графом, ничего не знают еще об этом в свете: какой-нибудь неопределенный слух, некоторые предположения и только, не правда ли?
— Сегодня только во второй раз граф провожал нас.
— Прекрасно! Возьмите первый предлог, какой вам попадется, не принимать его; затворите дверь вашу для целого света; для графа так же, как и для всех. Я беру на себя труд объяснить ему, что посещения его будут бесполезны.
— Альфред! — сказала испуганная мать моя, — будь благоразумен и осторожен.
— Будьте покойны, матушка, я постараюсь соблюсти при этом все необходимые приличия. Что касается причины, то назову ему одну.
— Действуй, как хочешь: ты глава семейства, Альфред, и я ничего не сделаю против твоей воли; но умоляю тебя именем Неба, умерь каждое слово, которое скажешь графу, и, если откажешь, смягчи отказ свой, сколь сможешь. — Мать моя увидела, что я беру свечу, чтобы идти. — Ах, Боже мой! — продолжила она. — Я и не подумала о твоей усталости. Ступай в свою комнату; завтра будет еще время подумать обо всем. — Я подошел к ней и обнял ее, она удержала меня за руку. — Ты обещаешь мне, не правда ли, успокоить гордость графа?
— Обещаю, матушка. — Я обнял ее в другой раз и вышел.
Мать моя сказала правду: я падал от усталости. Я тотчас лег в постель и проспал до десяти часов утра.
Проснувшись, я нашел у себя письмо графа. Я ожидал его, но не мог поверить, что оно будет таким сдержанным. Это был образец вежливости и приличия. Вот оно:
«Милостивый государь!
Несмотря на все желание мое доставить вам это письмо как можно скорее, я не мог послать его ни со слугою, ни с другом. Это могло бы возбудить беспокойство между лицами, которые столь дороги для вас и которых, я надеюсь, вы позволите и мне считать не чужими, несмотря на то, что произошло вчера у лорда Г.
Однако вы легко поймете, что несколько слов, которыми мы обменялись, требуют объяснения. Будете ли вы столь добры, чтобы назначить час и место, где можете мне дать его? Свойство дела требует, я думаю, чтобы это было тайной и чтобы не находилось при том других свидетелей, кроме тех, до которых оно относится; но, если вы хотите, я привезу двух своих друзей.
Вчера я доказал вам, мне кажется, что я смотрел уже на вас, как на брата; поверьте, что для меня дорого будет стоить отказаться от этого имени и что мне нужно будет идти наперекор всем моим надеждам, всем моим чувствам, чтобы считать вас своим противником и неприятелем.
Граф Гораций».
Я отвечал тотчас.
«Вы не ошиблись, граф: я ожидал письма вашего и со всею искренностью благодарю за предосторожность, принятую вами, чтобы доставить его ко мне… Но так как эта предосторожность будет бесполезной в отношении к вам и нужно, чтобы вы в возможной скорости получили этот ответ, то позвольте мне послать его со слугою.
Вы думаете справедливо: объяснение необходимо между нами; оно будет иметь место, если вам угодно, даже сегодня. Я поеду верхом и буду прогуливаться между первым и вторым часом пополудни в Булонском лесу в аллее Немой. Я не имею нужды говорить, что мне приятно будет там встретить вас. Что же касается свидетелей, мнение мое совершенно согласно с вашим: они не нужны при этом нервом свидании.
Мне не остается ничего более отвечать на письмо ваше, как говорить о чувствах моих к вам. Я бы очень искренно желал, чтобы те, которые вы питаете ко мне, могли быть внушены моим сердцем; к несчастью, их говорит мне моя совесть.
Альфред де Перваль».
Написав и отправив это письмо, я пошел к моей матери; она точно спрашивала, не приходил ли кто от Горация, и после ответа я нашел ее гораздо спокойнее. Что касается Габриели, она просила позволения и получила его: остаться в своей комнате. К концу завтрака мне привели лошадь. Приказания мои были в точности исполнены: к седлу были прикреплены ольстреди, в которые я поместил пару прекрасных дуэльных пистолетов, уже заряженных; я не забыл, что граф Гораций не выезжал никогда без оружия.
Я был на месте свидания еще в одиннадцать часов с четвертью: так велико было мое нетерпение. Проехав аллею во всю ее длину и поворотив назад, я заметил всадника на другом конце: это был граф Гораций. Узнав друг друга, каждый из нас пустил лошадь свою в галоп, и мы встретились на середине аллеи. Я заметил, что он, подобно мне, имел ольстреди у седла своей лошади.
— Вы видите, — сказал мне Гораций, — кланяясь с вежливостью и улыбкою, — что желание мое встретить вас равнялось вашему, потому что мы оба опередили назначенный час.
— Я сделал сто лье в одни сутки, чтоб иметь эту честь, граф, — отвечал я, кланяясь в свою очередь, — вы видите, что за мной нет остановки.
— Я предполагаю, что причины, побудившие вас так скоро приехать, не такие уж тайные, и хотя желание мое узнать вас и пожать вам руку заставило меня совершить эту поездку еще в менее короткое время, но я не думаю, что подобная причина заставила вас покинуть Англию.
— И вы думаете справедливо, граф. Честь семейства, едва не скомпрометированного, была причиной моего отъезда из Лондона и прибытия в Париж.
— Выражения, употребляемые вами, — возразил граф, кланяясь опять с улыбкой, которая становилась более и более язвительной, — заставляют меня надеяться, что причиной этого возвращения не было письмо госпожи Нерваль, в котором она уведомляла вас о предполагаемом союзе между вашей сестрицею и мной.
— Вы ошибаетесь, — возразил я, кланяясь в свою очередь, — я приехал единственно для того, чтобы воспротивиться этому супружеству, которое не может состояться.
Граф побледнел, и губы его сжались; но почти тотчас он принял свое обыкновенное спокойствие.
— Надеюсь, — сказал он, — что вы оцените чувство, повелевающее мне слушать с хладнокровием ваши странные ответы. Это хладнокровие есть доказательство моего желания сблизиться с вами, и желание это так велико, что я готов выслушать вас до конца. Окажете ли вы мне честь, милостивый государь, сказать: какие причины с вашей стороны могли стоить мне этой слепой антипатии, выражаемой вами так открыто? Поедем рядом, если хотите, и станем продолжать разговор.
Мы поехали шагом, как друзья, которые прогуливаются.
— Я слушаю вас, — сказал граф.
— Сначала, граф, позвольте мне, — отвечал я, — изменить суждение ваше о мнении, которое я имею о вас: это не слепая антипатия, а рассудительное презрение.
Граф привстал на стременах, как человек совершенно выведенный из терпения; потом, приложив руку к челу, сказал голосом, в котором трудно было заметить малейшее волнение:
— Подобные чувства довольно опасны, чтобы питать их и в особенности объявлять прежде совершенного познания человека, внушившего их.
— А кто сказал вам, что я не знаю вас совершенно? — отвечал я, смотря ему в лицо.
— Однако ж, если память не обманывает меня, только вчера я встретился с вами в первый раз.
— И однако ж случай, или скорее Провидение, нас уже сближало; правда, это было ночью, когда вы не видели меня.
— Помогите моим воспоминаниям, — сказал граф, — я очень туп для загадок.
— Я был в развалинах аббатства Гран-Пре. ночью с 27 на 28 сентября.
Граф побледнел и положил на ольстредь свою руку; я сделал то же движение; он заметил его.
— Что же далее?.. — возразил он.
— Я видел, как вы шли из подземелья, как закопали ключ.
— И какое намерение приняли вы вследствие всех этих открытий?
— Не допустить вас убить Габриель де Нерваль так, как вы пытались убить Полину Мельен.

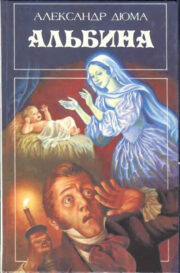
"Полина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина" друзьям в соцсетях.