Неожиданные происшествия приобретают или теряют свою важность от расположения ума, печального или веселого, или от обстоятельств более или менее критических, в которых, мы находимся. Конечно, ничего нет естественнее, чем потаенная дверь в библиотеке и круглая лестница в толще стены, но когда открываете эту дверь и эту лестницу ночью в уединенном замке, где живете одни и без защиты, когда этот замок возвышается посреди страны, в которой каждый день раздаются слухи о новом грабеже или убийстве, когда с некоторого времени вы окружены какой-то таинственной судьбой, когда гибельные предчувствия двадцать раз среди дня приводят в смертельный трепет ваше сердце — тогда все делается если не существенностью, то, по крайней мере, призраком и привидением, и кто не знает по опыту, что неизвестная опасность в тысячу раз страшнее и ужаснее видимой и существующей.
Тогда-то я стала сожалеть, что отпустила свою горничную. Ужас — чувство столь малорассудительное, что он возбуждается или уменьшается без всяких побудительных причин. Существо самое слабое — собачка, которая ласкается к нам, дитя, которое нам улыбается, — оба они, хотя не могут защитить нас, в этом случае служат опорой для сердца, если не оружием для рук. Если бы со мной была эта девушка, не оставлявшая меня в продолжение пяти лет, в преданности которой я была уверена, то, без сомнения, весь страх мой исчез бы; между тем как одной мне казалось: что я обречена на погибель и ничто не может спасти меня.
В таком положении я провела часа два — неподвижная и бледная от ужаса. Часы пробили десять, потом одиннадцать, и при этих звуках, столь естественных, я прижималась каждый раз к подлокотникам своего кресла. В половине двенадцатого мне послышался отдаленный шум выстрела из пистолета; я привстала немного, прислонясь к камину; потом, когда все стихло, упала в кресло, откинувшись на спинку. Я провела таким образом еще некоторое время, не смея отвести глаз от того места, на которое они были устремлены, чтобы не встретить какой-нибудь причины действительного страха. Вдруг показалось мне среди этой совершенной тишины, что ворота, находившиеся против крыльца и отделявшие сад от парка, заскрипели на петлях. Мысль, что приехал Гораций, изгнала в минуту весь мой ужас, и я бросилась к окну, забыв, что ставни были заперты; хотела отворить дверь, но по неловкости или из-за предосторожности малаец запер ее, уходя: я была пленницей. Тогда, вспомнив, что окна библиотеки, подобно моим, выходили также во двор, я отодвинула засовы и по одному из тех странных побуждений, которые производят величайшую храбрость после сильной робости, вошла туда без свечи, потому что приехавшие в это время могли быть и не Гораций с его друзьями и свет в комнате показал бы, что в ней живут. Ставни были только притворены; я открыла одну из них и при свете луны ясно отличила человека, отворявшего одну половинку ворот и державшего их полурастворенными; между тем как двое других, неся предмет, которого я не могла рассмотреть, проходили ворота, затворенные тотчас за ними их товарищем. Эти три человека вместо того, чтобы идти к крыльцу, обошли вокруг замка; но так как путь, по которому они следовали, приближал их ко мне, то я начала отличать форму тяжести, несомой ими: это было тело, завернутое в плащ. Без сомнения, вид дома, могущего быть обитаемым, подал какую-то надежду тому или той, кого похищали: род борьбы завязался перед моим окном; в этой борьбе показалась одна рука, она была покрыта рукавом платья. Итак, нет никакого сомнения, что жертвой была женщина… Но все это происходило очень быстро, рука, схваченная одним из троих незнакомцев, исчезла под плащом, потом все скрылись в тени тополевой аллеи, ведущей к небольшому запертому павильону, открытому мной накануне посреди дубового леса.
Я не могла узнать этих людей; заметила только, что они одеты были крестьянами; но если они точно были ими, то каким образом вошли в замок? Как достали ключ от ворот? Было ли это похищение или убийство?.. Я ничего не знала. Но, наверное, то или другое. Впрочем, все это было так необъяснимо и так странно, что несколько раз я спрашивала себя: не нахожусь ли во власти сновидения? Впрочем, не слышно было никакого шума, ночь продолжала свое тихое и спокойное течение, и я стояла у окна, неподвижная от ужаса, не смея оставить своего места, чтобы шум шагов моих не пробудил опасность, если она мне угрожала. Вдруг я вспомнила о потаенной двери, об этой таинственной лестнице; мне показалось, что я слышу глухой шум в этой стороне; я бросилась в свою комнату и заперла засовами дверь; потом почти упала в кресла, не заметив, что в мое отсутствие одна свеча погасла.
На этот раз меня мучил уже не пустой страх, а какое-то преступление, свидетелем которого я становилась, которое происходило около меня и исполнителей которого я видела своими глазами. Мне казалось каждую минуту, что отворяют потаенную дверь или отодвигают какую-нибудь незаметную перегородку: все эти незначительные звуки, слышимые ночью, которые производят треснувшая мебель или паркет, заставляли меня дрожать от ужаса; и посреди безмолвия я слышала, как билось мое сердце в такт маятнику. В эту минуту пламя моей свечи достигло бумаги, окружавшей ее; мгновенный свет разлился по всей комнате, потом стал уменьшаться; шипение продолжалось несколько минут, наконец фитиль, упав внутрь подсвечника, вдруг погас и оставил меня при свете одного камина. Я искала глазами вокруг себя дрова, чтобы зажечь их, и не находила. Тогда я придвинула одни головни к другим, и на минуту огонь вспыхнул с новой силой; но дрожащее пламя его не могло меня успокоить: каждый предмет двигался подобно свету, освещавшему его, — двери прыгали, занавеси волновались, длинные, движущиеся тени проходили по потолку и коврам. Мне становилось дурно… В эту минуту раздался небольшой шум, предшествующий звону часов, и пробило полночь.
Однако я не могла провести всей ночи в кресле; чувствуя холод, начинавший постепенно овладевать мной, я решила лечь одетой; подошла к постели, бросилась под одеяло и накрылась с головой. Я пробыла в таком положении почти час, не думая даже о возможности заснуть. Я буду помнить этот час всю мою жизнь: паук ткал паутину в углу алькова, и я слушала непрерывный труд ночного работника; вдруг он перестал двигаться, прерванный другим шумом; мне показалось, что я услышала небольшой скрип, подобный тому, который сделала дверь библиотеки, когда я надавила медную пуговичку; я высунула поспешно свою голову из-под одеяла и с окаменевшей шеей, удерживая свое дыхание, с рукою на сердце, чтобы остановить его биение, собирала в себя безмолвие, сомневаясь еще; вскоре мне не в чем уже было сомневаться.
Я не ошиблась: паркет трещал под тяжестью тела, шаги приближались и опрокинули стул; но, без сомнения, тот, который шел, боялся быть услышанным, потому что шум тотчас перестал, и наступила совершенная тишина. Паук начал опять ткать свою паутину… О! Вы видите, все эти подробности так живы в моей памяти, как будто я там еще, лежу в постели, и при последнем издыхании от ужаса.
Я услышала вновь движение в библиотеке: шаги приближались к тому месту, где стояла моя кровать; рука дотронулась до перегородки… Итак, я была отделена от вошедшего толщиною только одной доски. Мне показалось, что отодвигают перегородку… Я притворилась спящею: сон был единственным моим оружием. Если это вор, то он, думая, что я не могу ни видеть, ни слышать его, может быть, пощадит меня, считая смерть мою бесполезной; лицо мое, обращенное к полу, было в тени, что позволяло мне смотреть открытыми глазами. Я увидела движение в своих занавесях; рука раздвигала их медленно; потом между красной драпировкой появилась голова; последний свет камина, дрожавший в глубине алькова, осветил это видение: я узнала Горация и закрыла глаза…
Когда открыла их, видение уже исчезло, но занавесы были еще в движении; я услышала шум задвигавшейся перегородки, потом удалявшийся звук шагов, потом скрип двери, наконец опять наступила тишина. Не знаю, сколько времени я пробыла таким образом без дыхания и без движения, но к рассвету, измученная этой ужасной ночью, впала в оцепенение, похожее на сон.
XII
Я была разбужена малайцем, стучавшим в дверь, запертую мною изнутри; я была одета и тотчас встала отодвинуть засовы; слуга открыл ставни, и я, увидев в своей комнате свет и солнце, бросилась к окну. Это был один из прекрасных дней осени, когда солнце бросает последнюю улыбку на землю; все было так тихо и так спокойно в парке, что я начинала почти сомневаться в самой себе. Но происшествия ночи были столь живы в моем сердце; притом те места, которые охватывал мой взор, напоминали мне малейшие их подробности. Опять я увидела ворота, отворявшиеся, чтобы дать проход трем мужчинам и женщине, аллею, по которой они шли, следы, знаки которых остались на песке, более заметные в том месте, где жертва сопротивлялась, потому что те, которые несли ее, ступали тверже; эти шаги следовали по описанному уже мною направлению и скрывались в тополевой аллее. Тогда я хотела видеть, чтобы еще более увериться, если можно, свидетельство своих чувств: я вошла в библиотеку, ставня была полуотворена, как я оставила ее; опрокинутый стул посреди комнаты был тот самый, падение которого я слышала; я подошла к перегородке и, рассматривая ее с глубоким вниманием, увидела неприметную выемку, по которой она двигалась; я попробовала отодвинуть ее и увидела, что она стала подаваться. В эту минуту дверь моей комнаты отворилась; я успела отскочить от перегородки и схватить книгу в библиотеке. Это был малаец; он пришел сказать, что завтрак готов, и я пошла за ним.
Войдя в залу, я очень удивилась: думала найти там Горация, но его не было и даже стол был накрыт на один куверт.
— Граф не возвращался? — спросила я.
Малаец отвечал мне знаками отрицания.
— Нет? — пробормотала я, изумленная.
— Нет! — повторил он опять жестом.
Я упала в кресло: граф не возвращался!.. Однако я видела его: он подходил к моей кровати, поднимал мои занавеси через час после того, как эти три человека… Но те трое не были ли это граф и его друзья: Гораций, Генрих и Макс, похитившие женщину?.. Они одни в самом деле могли иметь ключ от парка и войти так свободно, не будучи ни видимы, ни беспокоимы никем; нет сомнения, это так. Вот почему граф не хотел, чтобы я приехала в замок; вот почему принял меня так холодно и удалился под предлогом охоты. Похищение женщины было устроено прежде моего приезда; теперь оно исполнено. Граф не любит меня более, он любит другую, и эта женщина в замке — в павильоне, без сомнения!

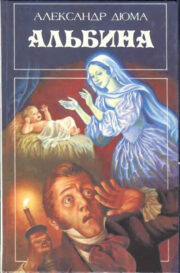
"Полина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина" друзьям в соцсетях.