— Посмотрим, дитя, — сказала она через минуту, отнимая мои руки, которыми я закрыла лицо, — посмотрим, что с вами?
— О! Я очень несчастлива, — вскричала я.
— Несчастья в твоем возрасте то же, что весенняя буря, она проходит скоро, и небо делается чище.
— О! Если б вы знали!
— Я все знаю, — сказала мне госпожа Люсьен.
— Кто вам сказал?
— Он.
— Он сказал вам, что я люблю его?
— Он мне сказал, что надеется на это: не ошибается ли он?
— Я не знаю; я всегда знала любовь только по имени: как же хотите вы, чтобы я видела ясно в своем сердце и посреди смущения, ощущаемого мною, отличила чувство, которое производит его?
— О! Так я вижу, что Гораций прочел в вашем сердце лучше вас.
Я принялась плакать.
— Перестаньте! — продолжала госпожа Люсьен. — Во всем этом нет, как мне кажется, большой причины для слез. Поговорим рассудительно. Граф Гораций молод, красив, богат, свободен, вам восемнадцать лет; это будет приличная партия во всех отношениях.
— О! Сударыня!
— Хорошо, не станем говорить об этом более; я узнала все, что мне хотелось. Теперь пойду к мадам Мельен и пришлю к вам Люцию.
— Но ни слова, умоляю вас.
— Будьте спокойны, я знаю, что мне делать. До свидания, милое дитя. Перестаньте, вытрите ваши прекрасные глаза и обнимите меня.
Я бросилась к ней на шею. Через пять минут явилась Люция; я оделась и вышла.
Я нашла мать в задумчивости, но нежнее обыкновенного. Несколько раз во время завтрака она смотрела на меня с чувством беспокойной печали, и каждый раз краска стыда появлялась па лице моем. В четыре часа госпожа Люсьен и ее дочь нас оставили; мать была со мною такой же, как и всегда; ни слова не было произнесено о посещении госпожи Люсьен и о причинах, которые заставили ее приехать. Вечером, когда я по обыкновению подошла к матери, чтобы обнять и поцеловать ее, я заметила у нее слезы; тогда я бросилась перед ней на колени, спрятав голову на груди ее. Увидев это движение, она поняла чувство, которое мне его подсказало, обняла меня, прижала к себе и сказала: «Будь счастлива, дочь моя, вот все, что я прошу от Бога».
На третий день госпожа Люсьен от имени графа сделала официальное предложение.
А через шесть недель я была уже женою графа Безеваля.
X
Свадьба была в Люсьене в первых числах ноября. В начале зимы мы возвратились в Париж. Мать моя дала мне по брачному контракту двадцать пять тысяч ливров ежегодного дохода, граф объявил почти столько же. Дом наш был если не в числе самых богатых, то, по крайней мере, в числе самых изящных.
Гораций представил мне двух друзей своих и просил принять их как своих братьев. Уже шесть лет они были соединены чувствами столь искренними, что в свете привыкли называть их неразлучными. Четвертый, о котором они говорили каждый день и сожалели беспрестанно, убит был в октябре прошлого года во время охоты в Пиренеях. Я не могу открыть вам имен этих двух человек, и в конце моего рассказа вы поймете отчего; но так как иногда буду вынуждена говорить о них, то назову одного Генрихом, а другого Максом.
Не скажу вам, чтобы я была счастлива; чувство, которое я питала к Горацию, было и всегда будет для меня неизъяснимо; можно сказать, почтение, смешанное со страхом; впрочем, это впечатление он производил па всех, кто к нему приближался. Даже оба друга его, по-видимому, столь свободные и фамильярные с ним, противоречили ему редко и уступали всегда, если не как начальнику, по крайней мере, как старшему брату. Хотя оба они были ловки во всех телесных упражнениях, но им было далеко до него. Граф преобразовал бильярдную залу в фехтовальную, в одной из аллей сада тренировались в стрельбе: каждый день эти господа упражнялись на шпагах или пистолетах. Иногда я присутствовала при этих поединках: тогда Гораций бывал скорее их учителем, нежели противником; во всех этих упражнениях он сохранял то страшное спокойствие, которое я видела у госпожи Люсьен, и многие дуэли, всегда оканчивавшиеся в его пользу, доказывали, что хладнокровие, столь редкое в критическую минуту, никогда его не оставляло. Итак, странная вещь! Гораций оставался для меня, несмотря на искреннюю дружбу, существом высшим и не похожим на других людей.
Что касается графа, он казался счастливым, по крайней мере любил повторять это, хотя часто беспокойное его чело показывало противное. Иногда также страшные сновидения тревожили его сон, и тогда этот человек, столь спокойный и храбрый днем, пробуждался среди ночи в ужасе и дрожал как ребенок. Он приписывал эти страхи приключению, случившемуся с его матерью во время ее беременности: остановленная в Сиерре разбойниками, она была привязана к дереву и видела, как зарезали путешественника, ехавшего по одной с нею дороге; из этого следовало заключить, что ему представлялись обыкновенно во сне сцены грабежа или разбоя. Также, чтобы скорее предупредить возвращение этих сновидений, нежели от страха, он клал всегда, ложась спать, у изголовья своей постели пару пистолетов. Это сначала меня очень пугало; я боялась, чтобы он в припадке сомнамбулизма не сделал выстрела; но мало-помалу я успокоилась и приучилась не обращать внимания па эту предосторожность. Но была другая, еще страннее, которой и теперь даже не могу объяснить себе: она состояла в том, что держали постоянно, днем и ночью, оседланную лошадь, готовую к отъезду.
Зима прошла в вечерах и балах. Граф был очень щедр; салоны его соединились с моими, и круг знакомства нашего удвоился. Он везде сопровождал меня с чрезвычайной учтивостью и, что более всего удивило свет, — перестал совсем играть. На весну мы уехали в деревню.
Там мы нашли опять наши воспоминания, наших знакомых и проводили время то у себя, то у своих соседей. Госпожу Люсьен и детей ее мы продолжали считать вторым нашим семейством. Итак, положение мое почти нисколько не изменилось и жизнь моя текла по-прежнему. Одно только иногда ее волновало: это грусть без причины, которая все более и более овладевала Горацием, и сновидения, становившиеся все более и более ужасными.
В этот год была очередь Горацио принимать своих друзей. Я тотчас предложила ему ехать с ним, чтобы содержать в порядке его хозяйство, но граф отвечал мне, что замок был только сборным местом для охоты, дурно содержимый, дурно меблированный, удобный только для охотников, которым везде хорошо, а не для женщины, привыкшей ко всем удобствам и роскоши жизни. Впрочем, приехав, он отдаст приказания, чтобы все переделки были сделаны и чтобы впредь, когда наступит его очередь, я могла провожать его и сделать честь его дому, приняв на себя обязанность благородного капеллана.
Этот случай, показавшийся моей матери столь простым и естественным, обеспокоил меня чрезвычайно. Я никогда не говорила ей ни о печали, ни об ужасе Горация, которые казались мне неестественными, что предполагала им всегда причину, которой он не хотел или не мог сказать. Однако с моей стороны так смешно было мучиться о трехмесячном отсутствии и так странно настаивать ехать с Горацием, что я решила скрыть свое беспокойство и не говорить более об этом путешествии.
День разлуки наступил: это было 27 августа. Граф и друзья его хотели приехать в Бюрси к началу охоты, т. е. к 1 сентября. Они отправились на почтовых и приказали послать вслед за собой своих лошадей, которых малаец должен был вести в поводу до самого замка.
В минуту отъезда я залилась слезами, увлекла Горация в комнату и просила в последний раз взять меня с собой. Я сказала ему о своем непонятном страхе, припомнила ему ту печаль и тот необъяснимый ужас, которые вдруг овладевали им. При этих словах он покраснел и в первый раз при мне выразил знак нетерпения. Впрочем, в ту же минуту сдержал его и, говоря со мной с чрезвычайной лаской, обещал, если замок удобен, в чем он сомневается, написать, чтобы я к нему приехала. Положась на это обещание, я проводила его гораздо спокойнее, нежели сама ожидала.
Однако первые дни нашей разлуки были ужасны, но, повторяю вам, не от страданий любви, это было неопределенное, но постоянное чувство ожидания большого несчастья. На третий день после отъезда Горация я получила от него письмо из Каэна: он останавливался обедать в этом городе и поспешил написать мне, помня, в каком беспокойстве меня оставил. Чтение этого письма меня несколько успокоило, но последнее слово возобновило опять все мои опасения, тем жесточайшие, что они для меня только одной были существенными, а всякому другому могли бы показаться смешными: вместо того, чтобы сказать мне «до свидания», граф написал «прощайте». Пораженный ум обращает внимание на мелочи: мне сделалось почти дурно, когда я прочла это последнее слово.
Я получила другое письмо от графа из Брюси; не видев замок три года, он нашел его в ужасном беспорядке; едва отыскалась в нем одна комната, в которую дождь и ветер не проникали; итак, бесполезно было бы думать о возможности приехать к нему в нынешнем году. Не знаю отчего, но я этого ожидала, письмо это произвело на меня меньшее впечатление, нежели первое.
Через несколько дней мы прочли в нашем журнале первое известие об убийствах и грабежах, приведших в трепет Нормандию. В третьем письме Гораций также сказал о них несколько слов, но, казалось, он не приписывал этим слухам такой важности, какую давали им газеты. Я отвечала ему, упрашивая возвратиться как можно скорее. Эти слухи казались мне началом осуществления моих предчувствий.
Вскоре новости начали становиться более и более ужасными; теперь я в свою очередь имела непонятную тоску и страшные сны; я не смела более писать Горацию; последнее письмо мое осталось без ответа. Я поехала к госпоже Люсьен, которая с того времени, как я созналась ей во всем, стала моей утешительницей: я рассказала ей о моих ужасных предчувствиях; она сказала мне то же, что мать моя говорила мне двадцать раз, что страх быть дурно помещенной в замке служил единственным препятствием Горацио взять меня с собой; она лучше всякого знает, как он меня любит; потому что он все доверил сначала ей и так часто благодарил за счастье, которым, по словам его, ей обязан. Эта уверенность, что Гораций любит меня, заставила меня вдруг решиться, если не получу скорого известия о его возвращении, отправиться самой к нему.

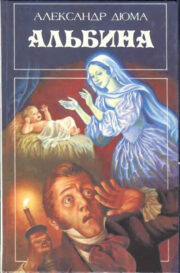
"Полина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина" друзьям в соцсетях.