Вследствие этого две кареты почти в одно время остановились у ворот маленького домика: в одной приехала герцогиня де Лорж с племянником, в другой – господин Дюваль с сыном.
Если бы приехал один Генрих со своей теткой, то Цецилия могла бы уйти в свою комнату и таким образом не видеться с ним. Но теперь ей необходимо было спуститься к гостям: молодые люди не могли войти в комнату баронессы, не встававшей с постели, и были приняты маркизой, которая послала за внучкой. Она нашла у своей бабушки обоих молодых людей – Генрих и Эдуард знали друг друга, но не были хорошими знакомыми: Генрих всегда помнил о своем высоком происхождении и значении в свете; Эдуард был слишком скромно воспитан своими родителями, чтобы заставить забыть себя о расстоянии, отделявшем его от Генриха. Для Генриха Эдуард был все еще не сыном банкира, ставшего богаче своей прежней хозяйки, а сыном человека, служившего у герцогини.
Цецилия не пропустила ни одной детали, а маркизе только этого и надо было. Превосходство Генриха ясно выказывалось во всем: не в одном происхождении и воспитании, но и в голосе, движениях, любезности. Из Эдуарда могло бы со временем что-то получиться. Генрих уже достиг того, что называют благовоспитанностью.
К тому же Эдуард, по скромности или по незнанию, молчал, тем более что он о многом слышал в первый раз, например об иностранных дворах. Генрих путешествовал три года; его имя и имя его тетки, верность его законному государю, благосклонность и расположение короля открывали ему вход во все дворы Европы. Его познания были так богаты и разнообразны, что редкий юноша в его лета мог похвастать подобными. Он знал и видел всех своих знаменитых современников в Италии, Германии и Англии. А бедный Эдуард знал только того банкира, у которого отец его был кассиром, получив немалую выгоду от небольшой доли в оборотах.
Маркиза, вовсе не будучи злой, была неумолима в тех случаях, где дело касалось ее аристократического происхождения. А потому она совершенно уничтожила бедного Эдуарда своим невниманием и этим, впрочем, повредила своим планам, потому что вместо презрения Цецилия почувствовала к бедному Эдуарду жалость и, удрученная тягостным положением своего друга, вышла под предлогом справиться о здоровье матери.
Цецилия действительно пошла к ней в комнату и здесь увидела почти то же. Герцогиня сидела у изголовья баронессы, Дюваль в ногах; затем герцогиня пересела в первое попавшееся кресло, Дюваль отыскал стул. Госпожа Дюваль говорила с герцогиней де Лорж только от третьего лица, по своей старой привычке, от которой то ли она не могла отвыкнуть, то ли намеренно, несмотря на свое теперешнее положение, не хотела оставить.
Это посещение совершенно погубило Эдуарда в глазах Цецилии. Генрих, не сказав девушке ничего, что могло бы обнаружить его чувства, высказал ей все глазами, так что несколько раз Эдуард ощущал невыгодность своего положения и краснел. От Цецилии не укрылось, что Эдуард догадывается, какую смешную роль он играет, и при прощании она, по обыкновению поцеловав госпожу Дюваль, протянула руку Эдуарду, но он только раскланялся.
Приехал доктор и прописал какой-то отвар, оставив прежнее лекарство.
Цецилии очень хотелось и эту ночь провести с матерью, но, устыдившись фразы, вырвавшейся у нее во сне, она согласилась с матерью и пошла в свою комнату.
Оставшись одна, она мысленно вернулась к событиям прошедшего дня, и два соперника, Эдуард и Генрих, возникли в ее сознании. Однако очевидно, что Эдуард скоро уступил свое место Генриху и мало-помалу совершенно изгладился из ее памяти, и она полностью предалась мыслям о Генрихе.
Надо прибавить, что Генрих гораздо быстрее завладел бы сердцем этой молодой и невинной девушки, если бы печальные и тягостные заботы в это время не грызли ее сердце. Состояние баронессы, оставшееся без должного внимания старой маркизы, открылось Цецилии во всей своей безнадежности. Она видела, что мать ее тает, как свеча, от смертельного недуга, и всякая мысль, чуждая ее матери, казалась преступлением бедной девушке.
На баронессу обрушились бесчисленные проявления детской любви и вся возможная забота. Лишь расставаясь с тем, кого любим, мы можем по достоинству оценить те драгоценные минуты, которые проводим с этим человеком, горько упрекаем себя в равнодушии, когда не дорожили его присутствием. Цецилия жила теперь в комнате баронессы, оставляя ее только на время обеда, и то ненадолго. Маркиза навещала иногда свою дочь, но из-за безмерной, по ее словам, любви она не могла переносить вида страданий, которые терзали умирающую баронессу.
Генрих почти каждый день посещал госпожу Марсильи, приезжая то в карете со своей теткой, то один верхом. В том и другом случае Цецилия редко присутствовала при его посещениях, однако, хотя она и считала святотатством даже помыслить о чем-нибудь, кроме своей матери, не могла утерпеть, чтобы не взглянуть на Генриха через штору, когда он приезжал или уезжал от них.
Эдуард, занятый службой, являлся только по воскресеньям.
С того дня, как баронесса приняла предложение Дюваля на счет брака между молодыми людьми и оставила на Дюваля все заботы по этому делу, ни слова не было сказано об этом предмете. Огромного труда стоило баронессе скрывать свое волнение при посещениях этого доброго семейства. Мало-помалу Эдуард и господин Дюваль перестали ездить в Хендон, одна лишь мать Эдуарда продолжала навещать больную.
Состояние баронессы все ухудшалось. Она еще довольно сносно провела лето, не чувствуя особенных страданий, как обыкновенно бывает при чахотке; но вместе с осенью и сыростью болезнь ее достигла такого периода, когда надежда на жизнь превращается в мечту.
Цецилия не отходила от матери, в этом и заключалась сила истинного и глубокого горя: она забыла все, кроме матери. Генрих продолжал свои посещения. Она с радостью его встречала, но ей казалось, что чувства ее к нему переменились. О будущем она не смела и думать – в нем она видела только страшную потерю своей матери. Баронесса, привыкшая читать сердце дочери, всегда открытое для матери, словно книгу, не пропустила этой перемены и, убедившись, что нельзя и думать о прежнем браке, предоставила Провидению судьбу своей дочери, не говоря ей об этом ни слова. Цецилия, замечая беспокойный взор матери, понимала ее мысль и готова была броситься в ее объятия, убедить ее, что будет счастлива, если выйдет замуж за Эдуарда. Но, чувствуя в себе довольно сил для принесения этой жертвы, если бы мать потребовала ее, она не находила в себе достаточно твердости, чтобы предвосхитить ее желания.
Жизненные силы оставляли баронессу, приступы лихорадки каждую ночь делали ее все слабее. Сон, оживляющий истощенные силы других, был для нее цепью мучительных сновидений и, как вампир, высасывал последние силы из ее тела. Однако же среди этих физических страданий она сохранила удивительную светлость ума: они только усиливали ее дух и воспламеняли воображение.
Замечая эту ясность во взоре и словах баронессы, Цецилия не могла поверить, что мать ее так близка к могиле. Баронесса видела это счастливое заблуждение дочери и остерегалась напоминать ей о близкой разлуке. Маркиза не хотела верить в то, что дочь ее была в безнадежном положении. Она еще меньше Цецилии догадывалась о горькой истине.
Баронесса всегда была религиозна. Одна надежда на высшее правосудие и небесное милосердие поддерживала ее в минуты несчастья и давала силы перенести с христианским смирением и покорностью все удары судьбы. Едва поняла она всю опасность своего положения, как послала за католическим священником, проживавшим в двух милях от Хендона, в селении Эджвер. Он навещал баронессу с самого начала болезни почти через день.
Однажды утром, за несколько минут до прихода священника, баронесса взяла Цецилию за руки, привлекла к себе и сказала:
– Дитя мое, не сокрушайся о том, что ты сейчас здесь увидишь. Я слабею с каждым днем, Богу угодно, может быть, скоро воззвать меня к себе, и я должна предстать перед его престолом чистой и свободной от наших земных страстей. Я просила священника провести соборование. Ты не оставишь меня во время совершения этого святого напутствия. Ты будешь молиться у моего изголовья вместе со мной, и, если у меня недостанет сил произнести слова молитвы, ты прочтешь их за меня.
– Маменька, маменька, ради бога, успокойтесь! Я не оставлю вас, не расстанусь с вами ни на час, ни на минуту. Я буду молить Бога, чтобы он послал вам долгую жизнь, чтобы я могла провести ее вместе с вами… Но зачем вы так торопитесь собороваться? Разве не будет еще времени?
Баронесса улыбнулась и снова прижала Цецилию к себе.
В эту минуту раздался звон серебряного колокольчика причетника[21], проникший в душу молодой девушки. Двери отворились: двое детей вошли в комнату с зажженными свечами, за ними шел священник с дарами. В коридоре показалась маркиза, бледная, поддерживаемая горничной. Передняя наполнилась нищими, которым баронесса, несмотря на свою бедность, часто помогала. По звону колокольчика больная привстала в постели, все присутствовавшие преклонили колена, и совершение таинства началось.
Надо присутствовать при этой картине, слышать напутственную молитву смерти над любимым существом, чтобы понять, что происходило в сердце молодой девушки, страстно желавшей удержать на земле тело матери, душа которой на крыльях ангела стремилась уже к своему первоначальному источнику – Небесам.
Баронесса внимала молитвам священника с присущим ей всегда спокойствием, и, полная религиозного чувства, молилась за себя и за счастье своей дочери. Но за это время она, однако же, два раза лишилась чувств. Лицо ее, красное от лихорадки, порой бледнело так, что ее можно было бы почесть мертвой, если бы слабый пульс не обнаруживал присутствия жизни.
Наконец она причастилась. Священник вышел с той же процессией, с какой вошел час тому назад, и колокольчик, так сильно потрясший Цецилию, умолк с уходом причетника.
С этой минуты баронесса казалась спокойнее и даже приступы сделались реже. Цецилия опять начала надеяться и согласилась даже оставить при ней на эту ночь одну горничную, но с условием, что ее тотчас разбудят, если приступ случится вновь. Даже маркиза захотела остаться подле дочери, но в этот раз, как и всегда, баронесса уговорила свою мать не брать на себя бесполезный труд, столь вредный в ее лета.

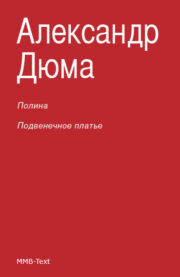
"Полина. Подвенечное платье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина. Подвенечное платье". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина. Подвенечное платье" друзьям в соцсетях.