– Да, верю, – тихо ответила мне Полина, – потому что было бы неблагодарностью с моей стороны сомневаться в ваших чувствах. Любовь ваша ко мне была так нежна и так возвышенна, что я могу говорить о ней не краснея, как об одной из добродетелей ваших… Что касается большего счастья, на которое вы надеетесь, Альфред, я не понимаю его… Наше счастье, я уверена в этом, зависит от непорочности наших отношений; и, чем более странным и ни на что не похожим становится мое положение, чем больше я освобождаюсь от обязанностей своих по отношению к обществу, тем строже я сама должна быть в их исполнении…
– О! Да… да, – сказал я, – я понимаю вас, и Бог наказал бы меня, если бы я осмелился когда-нибудь сорвать хоть один цветок с мученического венка вашего! Но может же, наконец, случиться происшествие, которое сделает вас свободной. Сам образ жизни графа, – извините, что я обращаюсь к этому предмету, – подвергает его опасности больше чем что-либо иное…
– О! да… да, я это знаю… Верите ли, я никогда не открываю журналов и газет без содрогания: меня пугает мысль, что я могу увидеть имя, которое носила, упомянутое в связи с каким-нибудь кровавым процессом, против человека, которого называла мужем, обреченного на бесчестную смерть… И в этом случае вы говорите о счастье, предполагая, что я переживу его?..
– О, сначала… и прежде всего, Полина, вы останетесь не менее чисты… Чисты, как самая обожаемая женщина… Он ведь и сам упрятал вас так, что ни одно пятно, ни одна капля крови не смогла бы пасть на вас… Но я не об этом хотел говорить, Полина! В нападении среди ночи, в какой-нибудь дуэли граф может встретить свою смерть… О, это ужасно, я знаю, не иметь другой надежды на счастье, кроме той, что вытечет с кровью из ран этого человека, вылетит с его последним вздохом!.. Но разве для вас самой такое завершение не будет благодеянием случая… забвением… даром Провидения?..
– Что же тогда? – едва слышно спросила Полина.
– Тогда, Полина, человек, который без условий сделался вашим покровителем, вашим братом, не будет ли он иметь прав на другое звание?..
– Но этот человек подумал ли о той обязанности, которую ему придется взять на себя, принимая это звание?
– Без сомнения, и он видит в нем залог счастья…
– Подумал ли он, что я изгнана из Франции, что смерть графа не положит конец этому изгнанию и что бремя, которое я несла при его жизни, я должна нести и в память о нем?..
– Полина, – сказал я твердо, – я подумал обо всем. Год, который мы провели вместе, был счастливейшим в моей жизни. Я уже говорил вам, что ничто не привязывает меня к одному месту… Страна, в которой вы будете жить, станет моей отчизной.
– Хорошо, – ответила мне Полина нежным голосом, который больше, нежели любое обещание, укрепил все мои надежды, – возвращайтесь, сохранив эти чувства: положимся на будущее и вверим себя Богу.
Я упал к ее ногам и поцеловал ее колени.
В ту же ночь я оставил Лондон, к полудню прибыл в Гавр, почти тотчас взял почтовых лошадей и в час ночи был уже у своей матери.
Она была на вечере с Габриэль. Я узнал где – у лорда Г., английского посла. Я спросил, одни ли они отправились на этот вечер; мне ответили, что за ними заехал Гораций. Я наскоро переоделся, бросился в кабриолет и приказал ехать в резиденцию посла.
Прибыв, я обнаружил, что многие уже разъехались. Залы начали пустеть, однако в них было еще достаточно народа, чтобы я мог пройти никем не замеченный. Вскоре я увидел своих мать и сестру: одна сидела в кресле с присущим ей невозмутимым спокойствием, другая танцевала, веселясь как ребенок. Я остановился у двери, чтобы не привлекать внимания; впрочем, я искал еще третьего человека, предполагая, что он должен быть где-то поблизости. В самом деле, поиски мои оказались недолгими: граф Гораций стоял, прислонившись к противоположной двери залы, прямо напротив меня.
Я узнал его с первого взгляда; это был тот самый человек, которого описала мне Полина, тот самый незнакомец, которого я видел при свете луны в аббатстве Гран-Пре. Таким я его себе и представлял: бледное и спокойное лицо, белокурые волосы, благодаря которым он казался моложе, черные глаза, в которых выражалась вся его странная и неоднозначная натура, наконец, складка на лбу, которую, за недостатком угрызений совести, должны сделать глубже заботы.
Габриэль, окончив кадриль, стала подле матери. Я тотчас попросил слугу сообщить госпоже Нерваль и ее дочери, что их ждут в передней. Мать моя и сестра вскрикнули от радости, увидев меня. Мы были одни, я крепко обнял их. Мать моя не верила ни глазам своим, смотревшим на меня, ни рукам, прижимавшим меня к сердцу. Она не ожидала, что, получив ее письмо, я приеду так скоро. В самом деле, вчера в это время я был еще в Лондоне.
Ни мать моя, ни сестра и не думали возвращаться в танцевальную залу; они попросили свои манто, надели их и приказали лакею подать карету. Габриэль шепнула несколько слов на ухо матери.
– И правда! – воскликнула последняя. – А как же граф Гораций?..
– Завтра я нанесу ему визит и извинюсь перед ним, – ответил я сухо.
– Но вот и он! – сказала Габриэль.
В самом деле, граф, заметив, что дамы покинули залу и не возвращались, отправился разыскивать их и нашел готовыми уехать.
Признаюсь, по моему телу пробежала дрожь, когда я увидел этого человека, подходившего к нам. Моя мать заметила, как судорожно сжались мои руки, увидела мой взгляд и инстинктивно почувствовала опасность еще прежде, чем один из нас успел произнести хоть слово.
– Извините, – обратилась она к графу, – это сын мой, которого мы не видели целый год! Он только что приехал из Англии.
Граф поклонился.
– Буду ли я один, – сказал он приятным голосом, – жалеть об этом возвращении, так как лишен счастья проводить вас?
– Вероятно, – произнес я, едва сдерживаясь, – потому что там, где есть я, ни мать моя, ни сестра не имеют нужды в другом кавалере.
– Но это же граф Гораций! – сказала с живостью моя мать, обращаясь ко мне.
– Я знаю этого господина, – ответил я голосом, которому старался придать оттенок высокомерия, даже презрения.
Я почувствовал, как задрожали мать моя и сестра; граф Гораций ужасно побледнел однако, ни одним жестом, ни единым словом не выдал своего волнения. Он увидел страх моей матери, и с учтивостью и почтением, о которых и сам я, возможно, не должен был забывать, поклонился и вышел. Мать моя с беспокойством следила за ним взглядом, потом, когда он скрылся, воскликнула:
– Поедем! Поедем! – И увлекла меня к крыльцу.
Мы сошли с лестницы, сели в карету и приехали домой, не обменявшись ни одним словом.
XV
Однако легко понять, что сердца наши переполняли разные чувства; моя матушка, едва приехав, сделала знак Габриэль удалиться в свою комнату. Та подошла ко мне, бедное дитя, и подставила свой лоб, как делала это прежде; но стоило мне поцеловать ее и прижать к груди, как она залилась слезами. Я посмотрел на нее, и взгляд мой проник в глубины ее души. Мне стало жаль ее.
– Бедная сестра, – сказал я, – не должно требовать от меня того, что я не в силах изменить. Бог создает обстоятельства, а они повелевают людьми. С тех пор как отец наш умер, я отвечаю за твою жизнь; я должен заботиться о тебе и постараться сделать тебя счастливой.
– О, да! Ты ведь старший, – ответила Габриэль. – Все, что ты прикажешь, я сделаю, не беспокойся об этом. Но я не могу перестать бояться, когда сама не знаю, чего боюсь, и плакать, если сама не знаю причины своих слез.
– Успокойся, – просил я как можно ласковее, – благодаря Небу, которое хранит тебя, величайшая из опасностей уже миновала. А теперь ступай к себе и молись, как должна молиться юная душа: обращение к Господу рассеивает страхи и осушает слезы… Иди!
Габриэль обняла меня и вышла. Матушка, преисполненная беспокойства, проводила ее взглядом и потом, когда дверь затворилась, спросила меня:
– Что все это значит?
– Это значит, матушка, – ответил я почтительно, но твердо, – что супружество, о котором вы писали мне, невозможно, и что Габриэль не будет женой графа.
– Но я уже почти дала слово, – возражала она.
– Я возьму его назад.
– Но, наконец, скажешь ли ты мне, почему… Что, без всякой причины?..
– Неужели вы считаете меня безумцем, – прервал я ее, – способным разрушить понятия, столь священные, как данное слово, не имея на то серьезных оснований?
– Так назови мне их.
– Невозможно! Невозможно! Я связан клятвой.
– Я знаю, что Горация во многом обвиняли, но еще ничего не могли доказать. Неужели ты веришь этой клевете?
– Я верю глазам своим, матушка, – я все видел.
– О!..
– Послушайте меня, вы же знаете, как я люблю вас и свою сестру; вам прекрасно известно, что когда речь идет о счастье вас обеих, я легко готов принять самые сложные решения; вы знаете, наконец, что в деле столь важном я не способен пугать вас ложью. Да, матушка, клянусь вам, что если бы это супружество совершилось, если бы я не приехал вовремя, а отец мой не поднялся из гроба, чтобы встать между дочерью своей и этим человеком, если бы Габриэль звалась теперь графиней Безеваль, тогда бы мне не осталось ничего другого, как похитить вас и дочь вашу. И я бы так и сделал, поверьте мне. Мы бежали бы из Франции, чтобы никогда в нее не возвращаться. Да, мы бы жили в безвестности, забытые всеми, на какой-нибудь другой земле, потому что в родном отечестве нас бы ожидало только бесславие.
– Но что же ты можешь сказать мне о причинах?..
– Ничего… я дал клятву. Если бы я мог говорить, мне достаточно было бы произнести одно только слово, и сестра моя была бы спасена.
– Итак, ей угрожает какая-нибудь опасность?
– Нет! По крайней мере, пока я жив.
– Боже мой! Боже мой! – беспокоилась матушка. – Ты заставляешь меня волноваться!
И тут я понял, что слишком увлекся.
– Послушайте, – продолжал я, – может быть все это не столь безнадежно, как мне представляется. Еще ничего не было окончательно решено между вами и графом; в свете об этом никто не знает, ходят какие-нибудь неопределенные слухи, предположения и только, – не правда ли?

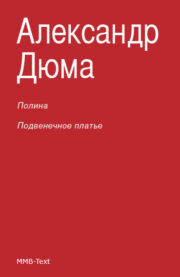
"Полина. Подвенечное платье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина. Подвенечное платье". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина. Подвенечное платье" друзьям в соцсетях.