Странно, что приближение смерти заставило меня почти забыть человека, который был ее причиной. Я думала о своем безнадежном положении, я была поглощена ужасом; но могу сказать, видит Бог, что если я не думала простить ему все, то также не хотела и проклинать его. Вскоре я начала страдать от голода.
Время, которое я не могла теперь измерять, шло; вероятно, уже минул день, и наступила ночь; когда вновь взошло солнце, один луч, проникший сквозь какую-то незаметную трещину, осветил основание колонны. Я испустила радостный крик, как будто этот луч принес мне надежду.
Я неотрывно смотрела на него и стала ясно различать все предметы, которые он мог осветить: это были несколько камней, ветка дерева и кустик мха. Возвращаясь к одному и тому же месту, луч солнца осветил это бедное и тощее создание. О! Чего бы я не дала теперь за то, чтобы быть на месте этого камня, этой ветки или мха, лишь бы увидеть еще хоть раз небо через маленькую трещину.
Я начала испытывать жгучую жажду, мысли мои мешались: время от времени кровавые облака представлялись моему взору, и зубы сжимались, как в нервическом припадке; однако я все еще смотрела на луч света. Без сомнения, он проникал в отверстие слишком узкое, потому что, когда солнце ушло в сторону, луч померк и сделался едва заметным. Его истощение лишило меня твердости и последних сил: я в отчаянии заламывала руки и билась в судорогах.
Голод отзывался острой болью в желудке. Рот горел; я взяла клок своих волос в зубы и начала жевать. Меня лихорадило, хотя сердце едва билось. Я начала думать о яде: встала на колени и сложила руки, чтобы молиться, но в этот миг забыла все молитвы; я могла припомнить только отрывки и совершенно не помнила конца. Мысли самые противоположные сталкивались в голове; мелодия в ушах; я чувствовала, что разум оставляет меня, я бросилась лицом на землю и некоторое время лежала не шевелясь.
Оцепенение, вызванное волнением и усталостью, овладело мной; я заснула; однако мысль о моем безнадежном положении преследовала меня и во сне. Я видела сновидения, лишенные всякого смысла. Этот болезненный бред, вместо того чтобы дать мне какое-нибудь успокоение, совершенно расстроил меня. Я проснулась с чувством сильнейшего голода, изнемогала от жажды; тогда я вновь подумала о яде, который был подле меня и мог подарить мне тихую и легкую смерть. Несмотря на мою слабость, несмотря на лихорадку, взбудоражившую мою кровь, я чувствовала, что смерть еще далека, что мне надо ожидать ее еще много часов и что самые страшные из них еще впереди. Тогда я решилась в последний раз увидеть тот дневной луч, который накануне посетил меня как утешитель, проскользнувший в темницу, где сидит заключенный. Я устремила взор в ту сторону, откуда он должен был показаться; это ожидание утешило меня немного и позволило отвлечься от жестоких мучений.
Долгожданный луч наконец появился; он был тусклым и бледным: без сомнения, в этот день солнце было скрыто за облаками. Тогда все, что освещало оно на земле, представилось вдруг глазам моим: эти деревья, луга, вода, столь прекрасная, Париж, которого я не увижу больше, матушка моя, может быть получившая уже известие о моей смерти и оплакивающая свою живую дочь. От этой воображаемой картины, от этих воспоминаний сердце мое разрывалось, я рыдала и тонула в собственных слезах. Мало-помалу я успокоилась, и теперь слезы мои текли в абсолютной тишине. Я не отказывалась от своего прежнего намерения отравиться, однако страдала уже не так сильно.
Я неустанно следила взглядом за этим лучом до тех пор, пока он блистал; потом он поблек и исчез… Я попрощалась с ним, махнув ему рукой и сказала ему «прости», потому что решилась не видеть его более.
Тогда я углубилась в себя и сосредоточилась на своих мыслях. За всю жизнь свою я не сделала ни одного дурного дела; я умирала безо всякого чувства ненависти и не желала никому мстить; Бог должен принять меня как свою дочь: я оставляю землю для Неба. Это была единственная мысль, которая была способна меня утешить, и я привязалась к ней.
Вскоре мне показалось, что мои размышления разлились не только во мне, но даже и вокруг меня; я начала ощущать присутствие той святой веры, которая поддерживала твердость мучеников. Я встала и подняла глаза к небу; тогда показалось мне, что взор мой проник сквозь свод, пронзил землю и достиг престола Божьего. В эту минуту страдания мои обратились в религиозный трепет, исполненный восторга. Я подошла к камню, на котором стоял яд, я как будто видела его сквозь темноту; взяла стакан; прислушалась – не раздастся ли какой шум; огляделась – не увижу ли света; прочла мысленно письмо, которое говорило мне, что уже двадцать лет никто не сходил в это подземелье, и может быть, еще столько же времени никто не спустится сюда; смирилась в душе своей с невозможностью избежать тех мучений, которые мне оставалось перенести; поднесла стакан с ядом к губам – и осушила его; сожаление и надежда все еще жили во мне, и я обратила свои последние слова к матери, оставляемой мной, и к Богу, к которому уходила.
Я не могла больше стоять и упала. Небесное видение мое померкло; покров смерти простерся между нами. Мои страдания от голода и жажды возобновились; но теперь я мучилась еще и от яда. Я ожидала с тоской этого ледяного пота, который должен был стать предвестником последней минуты моей жизни… Вдруг я услышала свое имя, открыла глаза и увидела свет: вы были там, у решетки моей темницы!.. Вы – то есть свет, жизнь, свобода… Я испустила радостный крик и бросилась к вам… Остальное вы знаете.
Теперь, – продолжала Полина, – я прошу вас повторить клятву о том, что вы никому не откроете этой страшной драмы до тех пор, пока будет жив кто-нибудь из троих, ставших ее непосредственными участниками.
Я повторил ей свою клятву.
XIV
Доверие, оказанное мне Полиной, сделало ее еще более недоступной для меня. Я почувствовал, как далеко должна простираться та преданность, которая составляла мою любовь к ней и мое счастье; но в то же время понял, как неделикатно будет с моей стороны выражать свою любовь к ней иначе, чем нежными заботами и почтительным вниманием. Согласно существовавшей между нами договоренности, она выдавала себя за мою сестру и называла меня братом. Однако, опасаясь, что она будет узнана кем-нибудь в салонах Парижа, я уговорил ее отказаться от мысли давать уроки музыки и языков. Что же касается меня, то я написал матери и сестре, что думаю остаться на год или два в Англии. Полина все еще терзалась сомнениями, когда я уведомил ее о своем намерении, но, видя, с какой радостью я взялся за его исполнение, она не осмелилась больше противоречить мне. Таким образом между нами установилось согласие.
Полина думала открыть свою тайну матери и, будучи мертвой для целого света, быть живой для той, кому обязана жизнью. Я поддерживал ее в этом желании, правда, не особенно решительно – потому как это лишило бы меня положения единственного ее покровителя, которое делало меня счастливым за неимением других званий. Полина, подумав, отвергла эту мысль, к величайшему моему удивлению, и, несмотря на все мои просьбы, не захотела открыть причину своего отказа, сказав только, что это опечалит меня.
Так протекали наши дни: для нее – в меланхолии, в которой иногда была своя, особенная прелесть, для меня – в надежде, если не в счастье, потому как я видел, что Полина день ото дня становится мне ближе. Сама того не замечая, она дарила мне едва уловимые, но бесспорные доказательства перемен, в ней происходивших. Если мы оба были чем-то заняты: она сидела за каким-нибудь вязаньем, я – за акварелью или рисунком, случалось часто, что, подняв на нее глаза, я встречал ее пристальный взгляд; если мы гуляли вместе, сначала она опиралась на мою руку, как на руку постороннего, но через некоторое время, от слабости или забываясь, она стала теснее прижиматься к моей руке; если я ходил куда-нибудь один, то, возвращаясь домой, еще издали замечал ее у окна, глядевшую в ту сторону, откуда, как она знала, я должен был появиться. Все эти мелочи, которые могли быть просто признаками установившейся между нами непринужденности или последствиями продолжительного знакомства, казались мне обещаниями будущего счастья. Я был признателен за них и благодарил Полину в душе, не смея высказать этого на словах: боялся, она заметит, что в наших сердцах расцветает чувство более глубокое, нежели братская дружба.
Мои рекомендательные письма сослужили хорошую службу: живя в уединении, вынужденные избегать светских раутов, мы все же время от времени принимали гостей. Среди наших знакомых был молодой медик, который за последние три-четыре года заслужил высокую репутацию в Лондоне благодаря своим глубоким познаниям в области органических заболеваний. Всякий раз, навещая нас, он смотрел на Полину с серьезным вниманием, всегда вызывавшим во мне некоторое беспокойство. В самом деле, эти свежие и прекрасные краски юности, которые прежде играли на ее лице и отсутствие которых я приписывал горести и утомлению, не появлялись с той самой ночи, когда я нашел ее умиравшей в подземелье; когда же румянец внезапно выступал на ее щеках, то придавал ей лихорадочный вид, беспокоивший меня больше, нежели бледность. Иногда случалось, что внезапно и без видимой причины Полину одолевали спазмы, доводившие ее до беспамятства, и в течение нескольких дней после таких припадков она была погружена в глубочайшую меланхолию. Наконец, приступы стали возобновляться все чаще и со все возрастающей силой, и однажды, когда доктор Сорсей посетил нас, я оторвал его от обычных раздумий, в которые он погружался при виде Полины, и взяв за руку, повел в сад.
Мы обошли несколько раз маленькую лужайку, не произнеся ни слова; потом сели на скамью, на которой Полина рассказала мне свою страшную повесть. Там мы с минуту сидели в молчании; наконец я решился нарушить его, но доктор предупредил мое желание, спросив:
– Вы беспокоитесь о здоровье сестры?
– Признаюсь, да, – ответил я. – И ваш вопрос лишь умножает мои страхи.

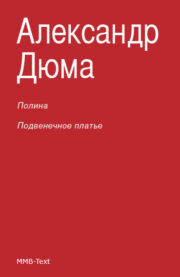
"Полина. Подвенечное платье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина. Подвенечное платье". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина. Подвенечное платье" друзьям в соцсетях.