– Так приударь же за нашей прекрасной англичанкой; твой слуга, кажется, сделал так, чтобы она не очень-то упрямилась. Вот славный малый! Возьми, это тебе.
Максимилиан дал малайцу горсть золота.
– Великодушен как вор! – произнес граф.
– Так я не слышал твоего ответа, – проговорил Максимилиан, поднимаясь со своего места. – Хочешь ты эту женщину или нет?
– Не хочу!
– Ну! Тогда я беру ее.
– Постой! – вскрикнул Генрих. – Мне кажется, что и я здесь что-нибудь да значу и что имею такие же права, как и остальные… Кто убил мужа?
– В самом деле, он прав, – сказал, смеясь, граф.
При этих словах послышались стенания. Я повернулась в ту сторону, откуда раздавался звук: на постели у колонн лежала женщина со связанными руками и ногами. Внимание мое было всецело поглощено разговорами графа и его друзей, так что сначала я ее и не заметила.
– Да! – продолжал Максимилиан. – Но кто поджидал их в Гавре? Кто прискакал сюда, чтобы известить вас?
– Черт возьми! – выругался граф. – Это становится затруднительным, и надо быть самим царем Соломоном, чтобы решить, кто имеет больше прав – шпион или убийца?
– Однако, – сказал Максимилиан, – вы заставили меня думать об этой женщине, и вот я уже влюблен в нее.
– И я, – признал Генрих. – Но раз Горацию она не нужна, то пусть он отдаст ее тому, кому захочет.
– Чтобы тот, кто останется ни с чем, донес на меня после какой-нибудь пирушки, не отдавая себе отчет в том, что делает? О нет, господа. Вы красивы, молоды, богаты: вам нужно всего десять минут, чтобы приволокнуться за этой дамой. Приступайте, мои Дон Жуаны!
– В самом деле, ты внушил мне прекрасную мысль, – признался Генрих. – Пусть, она сама выберет того, кто ей больше нравится.
– Согласен! – ответил Максимилиан. – Но пусть поспешит. Объясни ей это, Гораций, ты же знаешь языки.
– Охотно, – согласился Гораций.
– Миледи, – обратился он к даме на прекрасном английском языке, – перед вами два разбойника, это мои друзья, оба они благородного происхождения, что можно доказать документами, если хотите; друзья мои, будучи воспитаны в духе платонической философии, то есть раздела имений, сначала промотали все свое состояние, а потом, находя, что все дурно устроено в обществе, возымели мысль засесть на больших дорогах, по которым это самое общество разъезжает, чтобы исправить его несправедливость, пороки и неравенство. Пять лет уже, к величайшей славе философии и полиции, они свято занимаются исполнением этой обязанности, которая доставляет им средства блистать в салонах Парижа и которая приведет их, как это и случилось со мной, к какому-нибудь выгодному супружеству. Тогда они перестанут играть роли карлов мооров и жанов сбогаров. В ожидании этого, так как в замке никого нет, кроме жены моей, которой я не хочу им отдать, они покорнейше умоляют вас избрать из них того, кто вам больше нравится; или же они возьмут вас оба. Хорошо ли я изъяснился по-английски, сударыня, и поняли ли вы меня?
– О! Если у вас есть сердце, – вскрикнула бедная женщина, – убейте меня! Убейте меня!
– Что она говорит? – пробормотал Максимилиан.
– Она хочет сказать, что это бесчестно, – сказал Гораций, – и, признаюсь, я согласен с ней.
– В таком случае… – одновременно произнесли Генрих и Максимилиан, вставая со своих мест.
– В таком случае делайте что хотите, – закончил граф. Он сел, налил себе бокал шампанского и выпил.
– О! Убейте меня! Убейте! – вскрикнула опять женщина, увидев двух молодых людей, готовых подойти к ней.
В эту минуту произошло то, что легко было предвидеть: Максимилиан и Генрих, разгоряченные вином и охваченные одним и тем же желанием, повернулись друг к другу и обменялись яростными взглядами.
– Итак, ты не хочешь уступить мне ее? – спросил Максимилиан.
– Нет! – ответил Генрих.
– Ну! Так я сам возьму ее!
– Посмотрим.
– Генрих! Генрих! – вскрикнул Максимилиан, скрежеща зубами. – Клянусь честью, эта женщина будет принадлежать мне.
– А я клянусь жизнью, что она будет моей, и, верно, я дорожу больше своей жизнью, нежели ты честью.
Тогда они отступили назад, выхватили свои охотничьи ножи и начали схватку.
– Но из жалости, из сострадания, во имя Неба, убейте меня! – в третий раз вскрикнула связанная женщина.
– Повторите, что вы сейчас сказали, – приказал Гораций молодым людям, не вставая со своего места.
– Я сказал, – ответил Максимилиан, нанося удар Генриху, – что буду обладать этой женщиной.
– А я, – возразил Генрих, нападая, в свою очередь, на противника, – я сказал, что она будет моей, и сдержу свое слово.
– Нет! – возразил Гораций. – Вы оба солгали, она не достанется никому.
С этими словами он взял со стола пистолет, медленно поднял его, прицелился и выстрелил: пуля пролетела между Максимилианом и Генрихом и поразила женщину в сердце.
Увидев это, я испустила ужасный крик и упала без чувств, словно та женщина, которую убили.
XIII
Когда я очнулась, я была уже в подземелье: граф, услышав крик и шум, который я произвела, лишившись чувств, без труда нашел меня. Воспользовавшись обмороком, продолжавшимся несколько часов, он перенес меня в то место, где вы меня обнаружили. Подле меня на камне стояли лампа, стакан с ядом и письмо, содержание которого я вам сейчас перескажу.
– Неужели вы не решаетесь показать его и доверяете мне только наполовину?
– Я сожгла его, – ответила Полина, – но будьте спокойны: я не забыла из него ни слова.
«Вы вынудили меня пойти на это, Полина; вы все видели, все слышали: мне нечего более открывать вам; вы знаете кто я, или лучше – что я.
Если бы тайна, похищенная вами, принадлежала мне одному, если бы только жизнь моя была ее заложником, я подвергнул бы ее опасности скорее, нежели позволил бы упасть одному волоску с вашей головы. Клянусь вам, Полина!
Но невольная неосторожность, печать ужаса, которая может обозначиться на вашем лице при одном воспоминании, слово, произнесенное во сне, могут привести на эшафот не только меня, но еще двух других людей. Ваша смерть сохранит жизнь троим: итак, надо, чтобы вы умерли.
В какой-то миг я хотел убить вас во время вашего обморока; но у меня недостало для этого духу, потому что вы единственная женщина, которую я любил, Полина. Если бы вы последовали моему совету или, скорее, повиновались моему приказанию, вы были бы теперь подле своей матери. Вы приехали против моей воли: итак, припишите все это судьбе вашей.
Вы очнетесь в подземелье, куда за последние двадцать лет никто не спускался и куда, может быть, никто не сойдет еще столько же времени. Итак, не имейте надежды на помощь, потому что все бесполезно. Вы найдете яд подле этого письма. Вот все, что я могу сделать для вас: предложить вам быструю и легкую смерть вместо мучения медленного и ужасного. Во всяком случае, что бы вы ни предприняли, с этого часа вы умерли.
Никто не видел вас, никто вас не знает; та женщина, которую я убил, чтобы примирить Генриха и Максимилиана, будет погребена вместо вас в Париже, в усыпальнице вашей семьи. Мать ваша будет плакать над этой англичанкой, думая, что она оплакивает свою дочь.
Прощайте, Полина! Я не прошу у вас ни забвения, ни милосердия: я давно уже проклят, и ваше прощение не спасет меня».
– Это ужасно! – вскрикнул я. – О! Боже мой! Боже мой! Сколько вы страдали!
– Да! Теперь все, о чем мне остается рассказать вам, – одни лишь мучения. Наверное, нет нужды говорить об этом.
– Нет нужды? – вскрикнул я. – Расскажите!
– Я прочла это письмо два или три раза – и не могла убедить себя в его существовании. Есть вещи, против которых разум бунтует: имеешь их перед собой, – под рукой, перед глазами, – смотришь на них, дотрагиваешься – и не веришь. Я подошла в молчании к решетке – она была заперта; я обошла своею темницу, недоверчиво ударяя по ее влажным стенам кулаком; потом села в углу своей тюрьмы. Я была взаперти; при свете лампы я хорошо видела яд и письмо, однако сомневалась еще; я говорила, как говорят иногда во сне: я сплю, я хочу пробудиться.
Я сидела неподвижно до той самой минуты, пока лампа не начала шипеть. Тогда страшная мысль, не приходившая еще мне в голову, вдруг поразила меня: она скоро погаснет. Я вскрикнула от ужаса и бросилась к ней; масло почти все выгорело. От одной мысли о том, что скоро наступит кромешная темнота, мне захотелось умереть.
О! Чего бы я не дала за масло для этой лампы. Если бы она могла загореться от моей крови, я вскрыла бы жилу зубами. Лампа все шипела; свет ее тускнел, и тьма, которую она до сих пор рассеивала, постепенно приближалась ко мне. Я стояла подле нее на коленях, сложив руки; я не думала молиться Богу: я молилась ей; она… Наконец свет ее вступил в борьбу с темнотой, подобно тому как я сама боролась со смертью. Может быть, я одушевила ее собственными чувствами; но мне казалось, что она сильно привязалась к жизни и страшилась потерять огонь, который составлял ее душу. Вскоре для нее наступили последние минуты жизни с ее агонией: сначала она светила очень ярко и олицетворяла своим светом возвращение сил к лежавшему на смертном одре; свет ее разливался очень далеко и не знал границ, подобно тому как иногда воспаленный разум видит далее пределов зрения человеческого; но потом наступило совершенное изнеможение; пламя задрожало, словно последняя улыбка на устах умирающего, и, наконец, погасло, унося с собой свет.
Я сидела в углу темницы. С этой самой минуты я не сомневалась более в том, что все происходящее со мной не сон, потому что – странная вещь – с тех пор как я перестала видеть письмо и яд, я уверилась в их существовании.
Когда было светло, я не обращала никакого внимания на мертвую тишину, но, с тех пор как погасла лампа, она проникла в мое сердце. Впрочем, в этом безмолвии было нечто загробное, от чего веяло могильным холодом… Я бы закричала, если бы надеялась быть услышанной. О! Это была такая тишина, которая восседает на камнях гробниц в ожидании вечности.

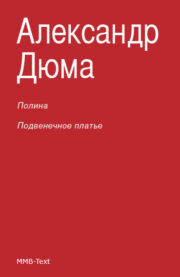
"Полина. Подвенечное платье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полина. Подвенечное платье". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полина. Подвенечное платье" друзьям в соцсетях.