Меня трясло от озноба, и в то же время я обливался потом. Однако тот, за кем охотятся королевские гончие, не должен долго оставаться на одном месте. При мне были две фляги вина, купленные еще во Фландрии, а доброе бургундское — именно то, что придаст мне сил. Изрядно отхлебнув, я вскарабкался на Моро, а затем расспросил хозяина, какая дорога ведет к ближайшему портовому городу. Но едва отъехав, я повернул коня в совершенно другом направлении. Мне случалось бывать в этих краях, и я решил, что куда лучше будет углубиться в фэны. В свое время здесь скрывались целые армии мятежных саксов, а уж одинокому путнику и вовсе не составит труда затеряться.
В крохотном селении я нанял проводника, взявшегося сопровождать меня к усадьбе Незерби, что близ Тэтфорда. Там, должно быть, до сих пор живет моя сестра Ригина, и хотя мы давным-давно с ней не виделись, я мог бы смело поставить голову против дырявого пенни, что она не откажет мне в помощи. Я и она — единственные оставшиеся в роду де Шамперов.
Сестра, кроме того, была невесткой графа Норфолка. Однажды я спас жизнь этому малому — в ту пору, когда он еще носил плащ тамплиера и не помышлял стать английским графом. А достигнув власти, он, в отличие от многих, известных мне, помнил сделанное ему добро. Мне уже приходилось пользоваться его помощью, но вряд ли он пожелает еще раз рискнуть всем, что имеет, ради личного врага короля Генриха. Одно бесспорно — Эдгар Норфолкский достаточно богат, чтобы не соблазниться наградой, назначенной за мою голову…
Но сейчас главное — уйти подальше от побережья, скрыться в фэнах, запутать следы. А в дальнейшем… Господь не оставит меня своей милостью.
Если вам доводилось слышать рассказы о Иерусалимском королевстве, о святых местах и могучих цитаделях крестоносцев, то наверняка рассказчик умолчал о тамошней окаянной жаре, о дорогах, где нет ни деревца, ни клочка тени, о муках жажды, столь сильных, что трескаются губы и язык прилипает к гортани. Все это нужно почувствовать на собственной шкуре, и тогда край, где заводи алеют под закатным солнцем, вода плещется под копытами коня и повсюду колышется тростник, покажется вам сущим раем. Поэтому, несмотря на приступы озноба, сотрясавшего мое тело, я улыбался, время от времени отхлебывая из фляги, и направлял коня вслед за проводником, прокладывавшим дорогу в тростнике.
— Эй ты! — окликнул я поселянина. — Ты сможешь вести меня, когда стемнеет?
— Как скажете, господин.
Смотри-ка, какое почтение… А ведь мне приходилось слышать, что люди этих болотистых краев промышляют не только контрабандой, но и разбоем. Да и этот парень не выглядит внушающим доверие, а я совсем ослаб. И хотя при мне мой меч и арбалет…
Об арбалетах разговор особый. Они бьют гораздо дальше и мощнее, чем луки, и их болты [88]наносят такие страшные раны, что сам Папа признал это оружие бесчеловечным и наложил на него запрет, не позволяя использовать против христиан. Но я привык к арбалету еще в Святой земле, где никто не возбранял пользоваться им против язычников-мусульман. Ну а в Европе арбалеты после папского запрета стали только более популярны. Стоили дорого, и иметь арбалет считалось шиком. Поэтому мой арбалет мог как пугать моего провожатого, так и будить его алчность. Я уже не говорю, какие мысли могли возникнуть у него при взгляде на такого красавца, как Моро.
И это все при том, что проводник не может не замечать, как я слаб. Меня качает и трясет, я кутаюсь в накидку и в то же время обливаюсь потом. Но пока я еще держусь в своем седле с высокими на арабский манер луками, а Моро послушно идет, повинуясь только движениям корпуса и колен.
Временами я погружался в видения, подобные снам наяву. Оттого и не заметил, как село солнце и в сумраке начал сгущаться туман. Порой вдали мелькали едва различимые огоньки селений. Мы двигались по гати, почти полностью скрытой под поверхностью воды, и я дивился, как это мой провожатый находит дорогу.
— Что-то вы совсем расхворались, сэр, — долетел до меня сквозь гул в голове его голос.
— Со мной все в порядке, приятель. Жарковато только.
Он хмуро поглядывал на меня из-под косм, кутаясь в шкуру от ночной сырости. Уже совсем стемнело. Где-то протяжно кричала сова. Чавкала жижа под копытами, шелестел тростник. Мой проводник сквозь пелену тумана казался призраком, но этот призрак по-прежнему уверенно продвигался вперед.
В какой-то миг я словно бы отключился. Пришел в себя и… стал петь вполголоса — одну из песенок, что распевали крестоносцы, переложив на свой лад стихи арабского поэта:
Долго я веселился в неведенье сладком
И гордился удачей своей и достатком.
Долго я веселился. Мне все были рады,
И желанья мои не встречали преграды…
Забавно петь, когда задыхаешься и трясешься, а голова будто отваливается назад в головокружении. И все же я заорал:
Долго я веселился. Мне жизнь улыбалась!
Все прошло без следа. Ничего не осталось!.. [89]
— Ради Пречистой Девы, сэр!.. — прервал меня испуганный возглас проводника. — Замолчите! Неровен час, всполошите души утопленников. Или феи сбегутся на ваш голос и заведут нас в трясину…
— Да ты никак оробел, парень? Неужто в округе нет ни единой христианской обители и попы до сих пор не разогнали всю эту болотную нечисть?
— Мы в фэнах, — буркнул на это провожатый.
— Тогда, парень, тебе стоит бояться лишь одного: чтобы ты не совершил глупость и я не обозлился на тебя.
Пожалуй, я сам побаивался, потому так и хорохорился. Ведь я слаб как дитя, вокруг ни души, а у этого лохматого вполне могла возникнуть шальная мысль убить и ограбить занедужившего путника. Знал бы этот дуралей вдобавок, какая награда назначена за голову человека, которого Генрих Боклерк объявил своим врагом!
Понятия не имею, как долго мы ехали. Я промерз до костей, мои зубы стучали. Поводья выпали из моих рук, и Моро, почувствовав это, сам шел за проводником, сердито пофыркивая, когда оступался с гати. Время от времени проводник оборачивался и начинал уверять меня, что вот-вот покажется какой-то монастырский приют, где мне окажут помощь.
Наконец я почувствовал, что мы остановились и проводник помогает мне спешиться. Я мутно огляделся — никакого приюта не было и в помине.
— Убери руки!.. — пробормотал я. — Что ты лапаешь меня, как девку?
Я стоял перед ним шатаясь, а потом рухнул, когда он грубо меня толкнул. Я нашарил нож у пояса и, когда он склонился, сделал резкий выпад. Это мне казалось, что резкий. А вот лохматый парень с легкостью выбил оружие у меня из рук и продолжал свое дело.
Еще один нож находился у меня за поясом сзади, другой — за голенищем сапога. Но сил, чтобы воспользоваться ими, у меня уже не было. Я неподвижно лежал, глядя, как проводник обшаривает меня и срезает кошелек, который я позаимствовал у старшего из купцов. Завладев им, фэнлендец с удовольствием подкинул на руке увесистый мешочек. Но мне не было жаль этих денег. В этот момент я ничего не испытывал, кроме полного безразличия. Меня даже не интересовало, как он меня убьет.
Но он оставил мне жизнь.
— Пусть тебя утащат болотные твари, сэр бродяга. Подыхай от своей трясучки, а на мне греха не будет. Но лошадь твою я прихвачу. Уж на рынке в Ризинге мне за нее фунтов двадцать дадут, не меньше.
Этот деревенский дурень трусил, если принялся рассуждать сам с собой. И наверняка он понятия не имел, что такое двадцать фунтов, тем более что такой конь стоит втрое дороже. А главное — он жестоко ошибался, полагая, что Моро позволит себя увести.
Когда же этот грабитель сунулся к моему скакуну, Моро попятился, фыркая и не давая взять себя за повод. При этом он прижал уши и оскалился, всем своим видом показывая, что не доверяет незнакомцу. Но лохматый житель фэнов все еще на что-то надеялся, бормотал ласковые слова, причмокивал.
Я не видел, что произошло дальше — мой проводник внезапно заорал не своим голосом и стал сыпать бранью, а Моро заржал, и его ржание походило на хохот. За этим последовали топот, плеск воды и новая ругань.
На этом я провалился в забытье, зная, что Моро сумеет постоять за нас обоих.
Сколько я пролежал без сознания — не знаю. Порой я приходил в себя и видел мутный свет, затем все снова заволакивалось мраком. Я бредил, и раскаленные скалы и пески Сирии вновь обступали меня. Затем доносилось пение ангельских голосов, и сухая старческая ладонь самого папы Гонория ложилась на мое чело. «Отпускаю грехи твои, — произносил дребезжащий голос его святейшества. — Ступай и больше не греши». О, это был час моего возрождения! Я снова сделался рыцарем, снова мог жить с честью.
Но должно быть, я не родился для подобной жизни. Ибо с таким трудом добившись прощения, я вскоре вновь умудрился стать изгоем — из-за рыжеволосой женщины с самыми гордыми глазами в подлунном мире. Из-за ее губ, белой нежной кожи, несравненных полушарий ее груди…
Какие это были ночи!.. Еще не родился трубадур, способный воспеть их. Я познал любовь самой необыкновенной дамы всего христианского мира, которая являлась одновременно императрицей, принцессой, графиней и наследницей престола…
— Тильда…
Только я имел право называть ее так. Только мне навстречу открывались ее жаркие уста. Родовитый супруг не сумел добиться ее любви, а мы с нею любили друг друга, пока шпионы графа Анжу не выследили нас, и если бы не легкие ноги моего Моро… Уж и не знаю, какую казнь изобрел бы для меня тот, кого все называли Жоффруа Красивым, но которого унизил я, вечный изгой.
Моя Тильда… Я сходил с ума от тревоги за нее. Меня разыскивали в Анжу, в Нормандии и в Англии, а я в это время находился совсем рядом и в любой миг был готов прийти к ней на помощь, даже пожертвовать собой. Но Тильда выстояла — в одиночку, без моей помощи, и уже много позже до меня дошел слух, что она родила бастарда… Я не знал, жив ли мой ребенок или умер после рождения — болтали и такое. Как бы там ни было, но моя возлюбленная помирилась с мужем и теперь рожала ему сыновей, а мне оставалось только одно — скрываться, ибо король Генрих присягнул на Библии, что рано или поздно бросит мою голову к ногам зятя. Правда, в этом он пока не особенно преуспел. Бог был на моей стороне, и как бы ни складывались обстоятельства, я не терял надежды.

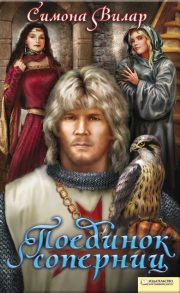
"Поединок соперниц" отзывы
Отзывы читателей о книге "Поединок соперниц". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Поединок соперниц" друзьям в соцсетях.