— Ради самого неба… — взмолился я.
Внезапно она повернулась ко мне и протянула спящую дочь.
— Плыви, Ральф, и возьми с собой Милдрэд. Ты любишь ее — так позаботься о ней! И скорее, ради Пречистой Девы!
Я застыл, прижимая к себе дитя и ничего не понимая. А Гита вдруг стремительным движением вырвала мой меч, а затем толкнула меня в лодку. Я покачнулся, пытаясь поймать равновесие с ребенком на руках, и едва смог проговорить:
— О нет! Это невозможно!
Милдрэд захныкала в моих мокрых объятиях. А Гита с неожиданной силой оттолкнула лодку от берега.
— Поторопись, Ральф. Я останусь с ним до конца.
Совсем близко послышался топот ног, треск кустарника. Гита скользнула в заросли и исчезла.
Челнок покачивался на мелкой волне, Милдрэд возилась у меня в руках.
Всемогущий Боже! Все, что здесь происходило, случилось по моей вине, и вот теперь у меня была возможность спастись самому и спасти дитя той, которую я обрек на гибель…
— Ральф… — сонно проговорила Милдрэд, и ее теплая ладошка коснулась моей щеки.
Я едва не разрыдался. А на берегу метались темные силуэты, оттуда доносились гортанные вопли. Ждать больше нельзя. Я усадил девочку на носу лодки.
— Сиди тихо, цветочек мой. Сейчас я покатаю тебя по озеру.
Теперь я отвечал за ее жизнь. Я взялся за шест и налег на него. Плоскодонка стремительно заскользила по черной воде. Милдрэд, поджав коленки, восседала на носу, словно маленький эльф.
Позади грянул хор яростных проклятий. Раздался всплеск, полетели брызги — совсем рядом в воду угодила пущенная стрела. За ней еще одна, и еще. Но берег близок — сейчас спасительная чаща укроет нас от врагов.
— Ложись на дно, маленькая. Будь умницей.
Девочка повиновалась. И в то же мгновение я почувствовал тупой удар в спину ниже лопатки.
Я налег на шест, и словно в ответ во мне взорвалась сумасшедшая боль. Но я не имел права останавливаться. Я вел плоскодонку, глухо рыча сквозь намертво сцепленные зубы, и воздух обжигал мои легкие, как кипяток.
И все-таки мне удалось ввести лодку в устье ручья — я понял это, когда ветви склонившихся над водой ив стали касаться моего лица. Я жадно хватал воздух ртом, а внутри меня — я чувствовал это — струилась горячая кровь, целые реки крови, заполняя все тело тяжелой, как расплавленный свинец, массой. Но я не мог останавливаться, я должен был увезти Милдрэд как можно дальше от охотничьего домика.
Шест в моих руках стал тяжелым, как мраморная колонна. Я поднимал его из воды и вновь опускал с приглушенным стоном. Дальше. Еще дальше…
Мир вокруг раскачивался и пульсировал. В какой-то миг я не удержал шест, и он исчез из моих рук. И тогда я осел на дно лодки. Все мои силы высосал туман, а теперь он, густой и белесый, не давал мне вздохнуть. Я пошевелился — и лодка закачалась.
Чудовищная сила опрокидывала меня навзничь, но почему-то я не мог лечь и вытянуться, как того отчаянно требовало мое тело. Что-то мешало, причиняя нестерпимую боль.
И только спустя некоторое время понял: у меня в спине торчит тяжелая дальнобойная стрела. Это означает, что со мной все кончено.
Беспорядочно замелькали, перемежаясь, свет и тени. Из бесконечной дали долетел дрожащий детский голосок. Откуда он, из какой вечности? Я уже не сознавал, где нахожусь. Мое тело пронизывал холод, воздух заканчивался, а вместе с ним иссякала жизнь.
Но меня это больше не тревожило. Чудесная легкость объяла мою душу. Там, в вышине, в разрыве белесой мглы, открылось бесконечное звездное небо. И мой взгляд был прикован к одинокой звезде, сияющей на черном бархате тьмы. Она была так далека — недосягаемая и неописуемо прекрасная. Звезда удалялась, уплывала во мрак, становилась все меньше, и вот — окончательно погасла…
Глава 12
Гай
Март 1135 года
У изгоев нет выбора. Приходится браться за любую работу, не думая о достоинстве. И когда я сговорился с льежскими евреями доставить их поклажу из Фландрии в Восточную Англию, мне была предложена мизерная оплата — ибо наниматели отлично знали, что имеют дело с человеком вне закона. Однако им был нужен опытный воин, а мне требовалось как можно быстрее покинуть эту страну, где псы Генриха Боклерка буквально наступали мне на пятки. Я должен был сопровождать их груз до порта Хунстантон в Норфолке и несмотря на то, что был совершенно нищ, радовался самой возможности уплыть за море, сбив со следа охотников за моей головой.
Однако в Хунстантоне купцы неожиданно отказались заплатить мне даже те гроши, что обещали, заявив, что я должен благодарить их уже за то, что они не выдали властям разыскиваемого Гая де Шампера.
Но не на того напали. Я скрутил парочку толстосумов и надавал им оплеух, а у их старейшины забрал кошелек. Жадный всегда платит вдвойне — пусть поразмыслят об этом на досуге. А мне в моей полной превратностей жизни не впервой добывать себе на пропитание разбоем.
Пока евреи опомнятся и кинутся с жалобой к властям, я буду уже далеко. Об этом я и думал, пришпоривая своего вороного Моро и направляя его вдоль берега моря прочь от Хунстантона. Моего скакуна не догнать ни одной из местных мохноногих и вислобрюхих лошадок.
Я ехал ровным кантером [85]вдоль побережья целую ночь, и утро застало меня среди дюн близ какого-то рыбацкого поселения. Наверняка здесь найдется таверна, где я смогу передохнуть и дать отдых коню. К тому же состояние мое ухудшалось на глазах.
Я знал, что со мной происходит. Многие из христиан, побывавших в Святой земле, стали добычей этой болезни — малярии. Если ты однажды подхватил ее, она не отпустит тебя до конца дней и время от времени придется переносить ее приступы. «Три дурных дня» — так еще называют эту хворь. Уже на корабле я почувствовал ее приближение. Теперь же все мое тело ломило, подступала слабость, зубы постукивали в ознобе. Лишь усилием воли мне удавалось сдерживать приближающийся приступ.
С лихорадкой мы старые враги и знаем, чего ждать друг от друга. Поэтому я держался, даже напевал, спрыгивая с седла во дворе захудалой таверны. Только на краткий миг я позволил себе расслабиться, прильнув к черному, как ночь, боку коня и ощутив его знакомое тепло и запах пота.
Мой Моро держался молодцом. Проскакав больше двадцати миль, он лишь слегка вспотел, бока его ровно поднимались и опускались. Я ласково огладил холку коня. Верный друг, самое близкое мне существо… Сколько мы пережили вместе!
Я гордился своим вороным — и не только потому, что он был породист и красив. С Моро меня связывало нечто большее: доверие и взаимопонимание. Я знал, что он предан мне и необыкновенно умен, и платил ему заботой и любовью. Во всем мире больше не было никого, кому бы я мог довериться. Если, конечно, не считать женщину, из-за которой я лишился всего и которая все еще снилась мне по ночам.
Из дверей появился служка таверны.
— Сэр, вам нехорошо?
Видимо, еще что-то оставалось во мне, беглеце и изгнаннике, от благородного рыцаря, раз паренек обратился ко мне «сэр». Хотя вид у меня скорее, как у простого солдата: латаный плащ, грубая дубленая куртка, обшитая стальными бляхами. Зато у меня меч лучшей дамасской стали и дорогой арбалет у луки седла. И не у всякого наемника такой конь. Мой Моро был чистых арабских кровей, но не мелким, как силагви, а настоящий рослый, поджарый хадбан [86]. Я получил его в подарок, будучи еще пленником эмира Балока. Но это долгая и грустная история, и я не стану ее рассказывать. Скажу только, что Моро мне достался лишь потому, что у мусульман есть странные предрассудки: они считают, если у вороного коня светлая отметина во лбу, то это верный признак, что он принесет гибель хозяину, а если еще и белые отметины на ногах — он наверняка не единожды взбрыкнет и поранит владельца. Чушь собачья. Моро со мной был ласков, как ягненок. Его быстрота и выносливость не единожды спасали меня, как тогда, когда я бежал от не в меру гостеприимного эмира, так и позже — в песках Сирии, на неспокойных дорогах Европы и особенно во время лова, какой устроили на меня люди сперва Жоффруа Анжуйского, а потом короля Англии.
С тех пор, садясь в седло, я больше никогда не пользовался шпорами. Кто же станет пришпоривать друга? На Востоке таких коней считают членами семьи, а мой преданный Моро… Порой мне казалось, что он не говорит только потому, что разумные существа не склонны к пустой болтовне.
О своем любимце я мог рассказывать часами. И хотя в тот миг служка таверны выражал свой восторг вороным, я даже не позволил ему отвести Моро на конюшню. Сам повел коня, сам обтер, позаботился, чтобы его поставили в теплое место и задали корма. О друге всегда лучше позаботиться самому. Но чего мне это стоило в моем состоянии! При выходе из-под навеса меня так качнуло, что я не упал, лишь опершись обеими руками о колоду для водопоя. Несколько минут не мог разогнуться, только тупо глядел на свое отражение в воде. Изможденное темное лицо, провалы глаз под густыми бровями, свисающие космами длинные черные волосы, уныло обвисшие усы над губой, на щеках трехдневная щетина. И это я, любимец женщин, щеголь, всегда следивший за своей внешностью, я, рыцарь Гай де Шампер, потомок прославленного рода, некогда приближенный Иерусалимского короля Бодуэна, гроза караванных путей Леванта, а позже командир отряда телохранителей римского кардинала и, наконец, возлюбленный императрицы Матильды. Ныне же просто усталый, больной путник, которому крайне необходимо отдохнуть. Но затем снова в путь — бежать, скрываться…
Я мгновенно уснул на соломе в углу таверны, предварительно попросив хозяина разбудить меня, когда зазвонят к вечерне [87], но когда проснулся, едва нашел в себе силы приподняться.
— Сэр, что-то вы неважно выглядите, — заметил хозяин таверны. — Может, кликнуть лекаря?

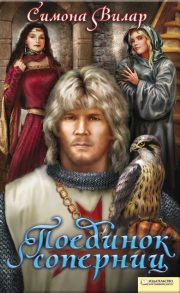
"Поединок соперниц" отзывы
Отзывы читателей о книге "Поединок соперниц". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Поединок соперниц" друзьям в соцсетях.