Он пожал плечами:
— Ну конечно, ты в состоянии ходить. Это не запрещено уголовным кодексом. Но ведь мы не две утки, которые проглотили приманку с одной ниткой. Ведь стены Казино не обрушатся, если нашим достопочтенным гостям придется один раз созерцать в течение одного тура бостона Селию без Бертрана Пейраса и Бертрана Пейраса без Селии!..
Он говорил громко. В баре, где было почти совсем тихо, его голос, наполовину насмешливый, наполовину недовольный, был услышан всеми. Те несколько мужчин, которые пили здесь, болтая между собой без всякого шума, сразу же смолкли, прислушиваясь к назревающему скандалу. Только женщина на крайнем табурете и ее кавалер продолжали свой частный разговор, вполне безучастные к тому, что происходило за их спиной.
Селия, которую задело за живое, захотела сперва разыграть презрение:
— О!.. Бедняжка!.. Умоляю тебя, не стесняйся ради меня!.. Можешь слоняться, сколько тебе будет угодно. Будь уверен, я смогу обойтись и без тебя! Ты даже можешь не трудиться приходить за мной. Я как-нибудь справлюсь одна, будь спокоен!..
Но тот поймал ее на слове:
— Да? — живо сказал он. — Превосходно, дорогая! До скорого!.. Увидимся в «Цесарке», в два часа, за ужином.
Он уже уходил страшно довольный удачей. Но Селия в бешенстве мгновенно переменила тон:
— Бертран! Послушай!..
Она соскочила с табурета, и табурет, который она оттолкнула изо всех сил, с грохотом упал. Все, находившиеся в баре, в то же мгновение очутились на ногах, включая сюда и парочку, которая оторвалась от своего нежного воркования.
— Бертран!.. Ты слышал, что я тебе только что сказала? Ты помнишь? Так вот! Берегись!.. Я предупредила тебя один раз, два раза я не стану тебя предупреждать.
Угроза казалась скорее смешной, чем трагической. И женщина с крайнего табурета решила, что может шутливо вмешаться в ссору:
— Браво, Селия! — крикнула она. — И плюньте на него, если он недоволен. Так всегда следует обращаться с любовниками!..
Она взглянула на своего любовника и засмеялась. Но Селия страшно побледнела и сделала отчаянный полуоборот:
— Скажите пожалуйста, и вы туда же! Не суйте носа в чужие дела! И оставьте меня в покое, если вам хочется, чтоб я вас не трогала!
Бармены были настороже и уже приблизились, чтоб вмешаться, если начнется сражение. Но та, к которой обращалась Селия, не обратила никакого внимания на ее слова, даже не двинулась с места и снова взялась за соломинку своего коктейля с такой чудесной флегматичностью, что сбитая с толку Селия остановилась. Тем временем Пейрас очень кстати спасся бегством из бара. Когда Селия спохватилась и хотела снова обратиться к нему, он был уже далеко. Тогда наступила реакция. И брошенная любовница едва успела снова усесться и наклонить голову над своим еще полным стаканом, чтобы скрыть крупные слезы, блиставшие на ее ресницах.
Только одна фраза, произнесенная довольно громко, прозвучала в стихшем снова баре, поясняя ликвидированный инцидент:
— Какая дикарка эта Селия!..
И услыхав эти слова, Селия не вздумала обидеться. Но ей пришлось сделать над собой жестокое усилие, чтоб подавить рыдание, которое клокотало теперь в ее горле. Дикарка… Да, Пейрас называл уже ее этим именем. И именно оттого, что она дикарка, он ушел, он бросил ее.
Выйдя из бара и закрыв за собой дверь, Пейрас сделал антраша. Потом он благоразумно постарался увеличить расстояние, которое отделяло его от его грозной подруги.
«Уф! — подумал он, пробираясь первым делом за задником с одной стороны сцены на другую. — Уф!.. Когда покойника Латюда[22] после тридцатипятилетнего сидения освободили от его цепей, он, наверное, переживал восхитительное чувство!..»
Он вышел из кулис. Мимо него кстати проносилась фарандола. Он подскочил, разъединил двух женщин без кавалеров, подхватил под руки обеих и торжествующе пустился в пляс, испуская радостные крики.
Приближался час ужина, и комитет праздника, собравшись в литерной ложе, прозванной адской,[23] готовился к традиционным формальностям, которые предшествуют столь же традиционному ужину.
Четыре сборщицы подаяний уже обошли публику, и каждая из них приняла в душе твердое решение добиться наибольшей выручки и ради этой благой цели ни перед чем не останавливаться, обещать все, что угодно и пользоваться всяким случаем. Результатом этого решения были четыре чрезвычайно сильно помятые юбки и четыре корсажа, настоятельно требовавшие большого количества булавок. Зато четыре кружки, которые были опорожнены на глазах Л'Эстисака, красноречиво свидетельствовали о сифилитической щедрости; бедные будут помнить этот бал, вне всякого сомнения самый щедрый из всех, имевших место в городе и в предместьях.
Теперь следовало вознаградить жертвователей в лице их подруг обильной раздачей аксессуаров. Оттого что на Сифилитическом балу, вполне естественно, не могло быть котильона: в этой воющей, топочущей и скачущей толпе задача руководителей и руководительниц котильона могла бы, без сомнения, сойти за тринадцатый из Геракловых подвигов, но отсюда вовсе не следовало, что можно лишить скромных маленьких девочек их кукол, дуделок и свистушек. Означенные девочки придавали этому не меньше значения, чем девицы «из общества» в подобных случаях придают значения подобным же безделушкам, памяткам о каком-нибудь вальсе и о чьих-нибудь черных или белокурых усах.
И Л'Эстисак, главный церемониймейстер, хлопотал о том, чтоб открыть доступ к запертой до сих пор двери, которая отделяла сцену от таинственного склада костюмов или декораций.
В это самое время всеобщее внимание вдруг перенеслось ко входу в бальный зал. Оглушительное «ура» приветствовало появление, вернее сказать, возвращение женщины — девчурки Фаригулетты, которая скрылась около часу назад и возвращалась теперь, только переменив костюм.
Только. Но новая рамка делала самую картину настолько ценной, что приветственные возгласы были вполне справедливы.
Фаригулетта продвигалась, несомая в триумфальном шествии целой когортой энтузиастов. Ее ноги опирались на мужские плечи; и бесчисленное количество рук держало ее за лодыжки, за икры, за колени; таким образом она возвышалась над самыми высокими головами и была видна от одного до другого конца зала. И громкие приветственные возгласы вылетали из шестисот уст.
На Фаригулетте была надета пара очень вырезанных сандалий, от которых крестообразно поднималась по ее обнаженным ногам — без чулок, без трико, без носочков — черная тесьма в палец шириной, поднималась до бедер, вокруг которых была обернута прозрачная красноватая ткань, составлявшая очень узкий пояс. Бархатная тесьма удерживала на месте эту ткань тем, что давила на нее, и продолжала дальше свой узор, на животе, на груди, на обнаженных плечах. Две груди, упругие и крепкие, налились под давлением тесьмы, которая, однако, нисколько не нарушала их совершенной формы. На шее тесьма заканчивалась ожерельем. Сияющее чудесной юностью тело в таком окружении темного и мягкого плюща казалось много более белым и чистым, оттого что оно было прекрасно.
Триумфальный кортеж обошел весь театр и наконец остановился под адской ложей, откуда сыпались розы. Это возвратившаяся к Л'Эстисаку Жанник, счастливая большим успехом маленькой подруги, которую она любила и которая была очень мила, бросала обезумевшей от радости героине все свои цветы. Началась невообразимая сутолока. Мужчины влезали друг на друга, и Фаригулетта на вершине этой груды человеческих тел достигла барьера ложи. Другие руки ухватили ее, и она перешагнула этот барьер под настоящее завывание, приветствовавшее чудесное вознесение триумфаторши. Тогда, улучив наиболее благоприятную минуту, Л'Эстисак отдал приказание. Запертые двери распахнулись и из склада костюмов внезапно появилась колесница, которую толпа подхватила и снесла со сцены в зал. Это была колесница Нептуна, и на ней сидел Синий Бог с бородой из водорослей. Десять Нереид, нагих от головы до пят, как некий ковер чистой плоти, поместились у его ног. И сплетенные руки начали бросать куклы, дуделки и свистки, которые танцевавшие дамы восторженно приняли, начав веселую свалку.
Потом затрубили фанфары и возвестили, что настало время идти ужинать. Коридоры были запружены густой толпой, которая топталась на месте и страшно толкалась. Шинельную взяли приступом, и она никак не поспевала выдать все манто и накидки. И очень многие решились отправиться, как они были, с непокрытой головой, без шалей, платков, накидок — в ресторан, к счастью расположенный неподалеку. По улице бежали женщины с открытой шеей.
Л'Эстисак предусмотрительно позаботился задолго до всего этого получить шубку Жанник. И молодая женщина, надлежащим образом укутанная, дожидалась в адской ложе, пока схлынет толпа.
Но так как до этого было еще далеко, герцогу пришла в голову блестящая мысль:
— Мы просто глупы! Пойдем через бар. Готов биться об заклад, что там нет ни души. Бармены отопрут для нас запасный выход.
И точно, в баре не было ни души; но не совсем: проходя через небольшую залу, Жанник заметила на одном из табуретов женщину, сидевшую неподвижно, закрыв руками лицо.
— Что такое? Но… Уж не ошиблась ли я? Мне кажется, это Селия?
Понурая голова поднялась, и Жанник увидела два больших черных глаза, влажных от слез.
— Что такое! Вот она и плачет!.. Живо осушите слезы, живо! живо, живо!.. Послушайте, детка… Что случилось? У вас какое-нибудь горе?
Селия сделала неопределенный жест. Потом, так как Жанник нежно обняла ее, она призналась со стыдом, как будто бы она совершила преступление:
— Он бросил меня.
— Бросил?.. Кто? Пейрас?.. И вы приходите в отчаяние из-за этого дрянного мальчишки? Послушайте!.. Что скажет ваш старый друг Доре? Селия, красотка моя, вы не подумали об этом. Никогда не следует плакать из-за любовника. Не стоит этого. Не говоря уже о том, что он, быть может, не совсем вас бросил: мы всегда готовы поставить крест на всяком деле, а в конце концов всегда все устраивается, и парочки снова мирятся. Ваш мидшип? Пари, что если вы будете вести себя достаточно разумно и не станете бегать за ним, он будет снова пришит к вашей юбке раньше, чем успеют пройти две недели.

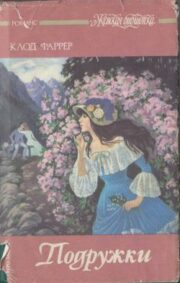
"Подружки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Подружки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Подружки" друзьям в соцсетях.