— Теперь, когда он стал султаном, ему больше не разрешат бриться, — сообщил я Накшидиль.
Сразу после прибытия валиде вышла из кареты, и я впервые увидел Миришах. Она была среднего роста, с отбеленной кожей и миндалевидными глазами. Она стояла выпрямив плечи и, хотя была плотного телосложения, передвигалась с естественной грациозностью.
Падишах проводил мать к ее новому жилищу, и, когда оба дошли до священного имперского гарема, все уже знали, что Миришах, султанша-мать, теперь второе всемогущее лицо в империи. Мы шли в нескольких ярдах позади нее и почти чувствовали, как дрожит земля.
Спустя несколько недель после въезда Селима в Топкапу Накшидиль вызвали в покои новой валиде-султана. Мне было приказано сопровождать ее, и она с тревогой шла за мной по бесконечному коридору к большому мощеному двору. Мы прошли через портик с мраморными колоннами, мимо фонтана, миновали еще один узкий переход и достигли винтовой лестницы. Когда мы забрались наверх, я услышал, как Накшидиль глубоко вдохнула: зал валиде, сверкавший позолотой и причудливыми завитушками, был построен в стиле рококо, типичном для дворцов Франции. Сводчатый потолок с углублениями, позолоченные обшитые деревом стены, расписанные пейзажем, резные ниши и позолоченный камин в стиле барокко так сильно напомнили ей о прошлом, что она стала напевать мелодию Баха.
Накшидиль становилось не по себе при мысли о встрече с валиде, и она нервно расхаживала по комнате. Она поманила меня в угол, где большие окна выходили на плескавшееся под нами Мраморное море, посреди него стоял Золотой Рог, а дальше виднелся Босфор, достигавший берега Европы слева и Азии справа. То туда, то сюда сновали корабли, точно игрушечные лодочки, плававшие в собственной ванне валиде.
Похоже, я перебил мысли Накшидиль, но сейчас было важно обратить ее внимание на то, где она находится.
— Селим взошел на трон менее двух месяцев назад и уже успел обустроить это помещение для матери. Посмотрите на то место в стене, где начертана тугра султана, — сказал я, указывая на арабскую каллиграфию, которой было выведено имя Селима и его особый знак. — Эта тугра будет прикладываться ко всем документам.
— Ты думаешь, Селим сам придумал, как выстроить это помещение? — спросила она.
— Каждый султан использует наследие прошлого и добавляет к нему что-то свое. Часть этого помещения, наверное, уже существовала, но десятки рабов трудились денно и нощно, чтобы быстро завершить его.
— Наверно, он сильно любит свою мать, — произнесла она.
— Посмотрите вот туда. — Я кивнул в сторону точки над дверью. — Там написано: «Миришах — море доброжелательности и источник постоянства». Эта надпись точно выражает его чувства.
Тут я жестом указал на диван, занимавший весь периметр стены, и пригласил Накшидиль сесть, но едва она успела это сделать, как вошла Миришах. Накшидиль тут же вскочила, почтительно поклонилась, коснулась губами и лбом руки валиде и наклонилась до самого пола.
Валиде-султана быстро уселась на серебряный трон, по каждую сторону которого встал чернокожий евнух. Следы ее красоты сразу бросались в глаза. Хотя ее молодость осталась далеко позади, как горы Кавказа, она все еще оставалась привлекательной. У нее были густые каштановые волосы, карие глаза и выдающиеся скулы на широком славянском лице.
Я слышал, что ее продали на стамбульском невольничьем рынке в возрасте девяти лет и привели к султану Мустафе III в Топкапу в 1757 году. Она нарожала султану множество детей; из них выжили две дочери и сын Селим. После смерти Мустафы в 1774 году, когда Абдул-Хамид взошел на трон, ее отправили во Дворец слез, где она пробыла почти пятнадцать лет. Даже в этом ужасном месте она сохранила достоинство. У нее была осанка женщины, привыкшей властвовать.
Теперь, сидя на своем троне с высоко поднятой головой и прямой спиной, она выглядела умной и энергичной. «Рабыням не позавидуешь», — подумал я и поежился. Евнух передал ей янтарную трубку, она зажгла ее раскаленным древесным углем, затянулась от усыпанного драгоценными камнями мундштука, выпустила дым и заговорила. Ее поведение стало постепенно меняться: карие глаза заблестели, угрюмое выражение лица сменила улыбка. Она начала удовлетворять собственное любопытство.
— Скажи, дитя мое, — обратилась она к Накшидиль, — я знаю, что бей Алжира подарил тебя султану Абдул-Хамиду и прислал сюда, но как ты оказалась в руках бея?
Накшидиль стояла перед ней с опущенной головой, сжав руки в кулаки, чтобы не выдать дрожь. Я стоял рядом с ней, готовясь в любой момент помочь. Впервые после того, как оказалась здесь, эта девушка получила разрешение открыто рассказать о своем детстве, и, пока она время от времени поворачивалась ко мне, прося перевести какое-нибудь выражение, слова непрестанно лились с ее уст. Быть может, валиде охватило любопытство после длительного уединения в Старом дворце, или же она просто стала интересоваться внешним миром, но каждый ответ Накшидиль вызывал у нее все больше вопросов.
— О, ваше величество, — начала девушка, — все началось за несколько дней до моего девятого дня рождения, в апреле тысяча семьсот восемьдесят пятого года, когда родители заявили, что оправляют меня во Францию учиться.
— В этом есть что-то необычное? — спросила валиде.
— Так поступает каждая креольская семья, которая может себе это позволить. Все мои предки выходцы из Франции, и у многих до сих пор там живут семьи.
— Понимаю. — Миришах снова затянулась.
— В утро отъезда я съела обычный завтрак; до сих пор помню вкус свежих апельсинов, хлеба и теплого шоколадного напитка. Потом мы поехали в порт. Как сейчас вижу пристань на Мартинике, пробегавших мимо нас моряков, как грузят на борт сахар, пряности и табак, мать, прикрывшуюся зонтом от горячего солнца. От нее еще исходил аромат жасмина.
Мой папа удивил меня тем, что достал из кармана тонкую золотую цепочку. На ней висел медальон моей матери. Он надел его мне на шею. Я поцеловала в щеку отца, затем мать. Она просила меня не забывать, что ее любовь заключена внутри этого медальона. Я видела, как дрожали ее губы, она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Папа все время говорил, что я воплотила в себе лучшие качества их обоих: тонкие черты и грациозные манеры матери, острый ум и решительность отца.
Я заметил, что валиде уставилась на свою трубку.
— И потом вы уехали? — перевел я.
— Корабль поднял паруса, и в то утро я отчалила вместе со своей чернокожей няней. Меня охватили страх и смущение, я боялась расставаться с семьей и ехать вместе с Зина. Она была не намного старше меня, но жизнь сделала ее взрослой и сильной. Пока мы смотрели на удаляющийся причал, няня обняла меня своими большими руками, на ее круглом лице появилась улыбка и она сказала: «Впереди нас ждет захватывающее приключение».
— Куда направлялся корабль и сколько длилось плавание? — спросила валиде.
— Корабль направлялся в Бордо; оттуда нам предстояло добраться до Луары и дальше к монастырю в Нанте. Мы путешествовали шесть недель через Атлантический океан и к концу июля достигли Нанта.
— Что было потом?
Вскоре мы нашли улицу Дюгаст-Маттифэ и грозные арки монастыря Благочестивых дев. Мы устроились на новом месте: Зина получила работу садовницы. Меня, как и других девушек моего возраста, называли «юными сестрами» и учили, как следует жить в монастыре. Но я очень тосковала по семье и каждый день, на рассвете, открывала медальон, висевший у меня на шее, чтобы проверить, находится ли любовь матери внутри его.
— А какова эта монастырская жизнь, о которой ты говоришь? — спросила Миришах. — Она похожа ни жизнь в гареме?
— В некотором смысле, — ответила Накшидиль. — Там жили двадцать девушек моего возраста, за нами присматривали монахини, женщины, отвергшие мужчин и посвятившие себя одному Богу.
— Каков у тебя был распорядок дня?
— Каждое утро я умывалась, одевалась и заправляла постель. Вместо диванов, какие находятся в нашей спальне во дворце, там стоял ряд жестких детских кроваток, расположенных одна от другой на расстоянии ровно два с половиной дюйма. На завтрак нам подавали хлеб с коркой и густой горячий шоколадный напиток, что ежедневно напоминало мне о доме. Тогда я покрывала голову вуалью, молилась вместе со всеми, после чего сразу шла на уроки.
— Что ты учила?
— Мои любимые уроки были вышивание, музыка и танцы.
— Точно как здесь, — заметила валиде.
— Да, как здесь. Только там были и другие предметы. Если бы у меня имелся выбор, я бы провела свои дни, вышивая, танцуя и играя на скрипке. Однако монахини твердили, что в монастыре главное внимание уделяется традиционному образованию. В строгую учебную программу входили история, арифметика, литература, латинский язык, правописание, каллиграфия, умение вести себя и, конечно, катехизис. Каждый вечер нам задавали выучить наизусть большие отрывки. Ах, как я боялась их! А утром нам приходилось декламировать их монахиням.
— Как это странно, — сказала Миришах, — женщины учат наизусть историю, арифметику и литературу. А этот катехизис, который ты упомянула, что это такое?
— Это вопросы и ответы о католицизме. Мы должны были их выучить.
— Надеюсь, ты выбросила это из головы, — произнесла валиде и нахмурилась. — Ислам стоит выше всех других религий. Иисус один из наших пророков, как Моисей и другие, но это все. Полагаю, ты усвоила это?
Девушка кивнула, но ничего не сказала.
— А как же умение быть женщиной? — продолжала задавать вопросы валиде. — Тебя учили, как угодить мужчине?
— О, ваше величество, этому нас тоже учили. Нас учили выполнять наши обязанности в семье, уважать желания мужчин, хорошо заботиться о детях и, прежде всего, вести себя как подобает хорошим христианкам. Мы внимали словам мадам де Ментенон. Жена «должна научиться повиноваться, — говорила она учащимся, — ибо вам надлежит подчиняться всю жизнь».

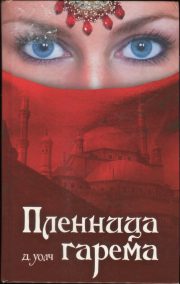
"Пленница гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пленница гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пленница гарема" друзьям в соцсетях.