Это не гипотетический папаша клянется, а вполне реальный литератор Николай Гоголь, некогда дебютировавший красивым, как рождественская открыточка, стихотворением «Италия»; «я, – клянется, – совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня…»
Да как же, спрашивается, могли не обижаться они, герои «Ревизора»! Как могли не сердиться! Не могли, и, стало быть, изумляться тут нечему. Разве что от лукавства… И все-таки К-ов в искренность Гоголя верил.
Патетичный мечтатель, любитель жаркого итальянского солнца, наивный и напыщенный государственник не растворился в саркастическом авторе, целехонек остался, просто от него мало-помалу отделилось некое самоуправное, с руками-ногами, существо (хотя по чину ни рук ни ног ему вроде бы не полагалось) и принялось, разгуливая по садам российской словесности, выкидывать такие коленца, что владелец волшебного пера, подобно герою своему, владельцу носа, «не знал, как и подумать о таком странном происшествии».
А вот другие знали. Другие воспринимали разделение майора на две неравные части как нечто само собой разумеющееся. Но то другие – им хорошо, со стороны-то! – а разделившийся майор паниковал страшно. «Какой же был ужас и вместе изумление Ковалева…»
Ужас! Словечко это выскочило как бы невзначай и выскочило загодя, намного опередив чувство, которое, придет час, вконец доконает изнемогшего творца, в смятении взирающего на ненароком порожденные им – или самоуправной частицей его – диковинные образы. Для него они, по собственному его признанию, так и остались загадкой, ибо – пассаж этот крепко отпечатался в памяти К-ова – заключали «в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться».
В конце концов процесс отделения завершился. Теперь уже можно было глядеть на содеянное суверенной частицей как бы со стороны и даже проявлять по отношению к ней известную снисходительность. Знаток италийских красот отдавал, разумеется, должное совершенству явленной под его именем художественной работы, но он же испытывал к ней глубочайшее подозрение. Если не сказать: неприязнь. Как опять-таки майор Ковалев испытывает неприязнь к великолепному самозванцу…
А еще, подметил К-ов, побаивается его и завидует. Нос-то и чином повыше его, и побогаче, а уж об известности и говорить нечего: все вокруг только и судачат о носе майора Ковалева, в то время как до самого майора со всеми его страданиями нет никому дела. Да и страдания эти считают невзаправдашними какими-то, выдуманными – вперед, словом, написана автобиография (а что удивительное сочиненьице это – чистейшей воды автобиография, К-ов с некоторых пор не сомневался), на много, много лет вперед, вплоть до болезни, которую никто ведь не будет признавать всерьез и которой до сих пор, между прочим, не поставлен диагноз. Но которая тем не менее окажется смертельной.
Только не для Носа. Феноменальную живучесть проявил сей расторопный господин, бодрость духа и насмешливое пренебрежение к своему бывшему хозяину со всей его меланхолией и удушливой святостью. Даже имя его оттяпал, что, в общем-то, не явилось неожиданностью: имя мое, пророчествовал Гоголь, будет счастливее меня, однако К-ов различил вдруг в этих со школы знакомых и якобы горестных словах (…)
Мальчик приходил
Д а м а. Ты ведь еще жив.
Р у б е к (недоумевая). Жив?..
Полнолуние, по обыкновению, началось днем, когда не только тени – ночные тревожные тени, – но и ночные тревожные звуки напрочь изгнаны солнечным светом. Впрочем, это лишь кажется так: напрочь, на самом деле попрятались и ждут исподтишка своего часа. Едва стемнеет, полезут отовсюду, точно зверьки, маленькие усатые существа с подрагивающими носами. Сколько людей на свете даже не подозревает об их существовании – счастливцы! – однако не только зависть испытывал защитник Мальчика, не только беспокоился и не только боялся надвигающейся ночи, но и предвкушал ее в глубине души, как предвкушает гурман дегустацию пряных и острых, пусть даже и опасных для здоровья блюд. Он нервничал – защитник, адвокат (именно так: Адвокат), он шевелил бровями (у Адвоката мохнатые, с проседью, брови), он раздражался по пустякам, – словом, ему, как обычно во время полнолуния, было не по себе, но, опытный человек, держал себя в руках. Вот разве что раздувал иногда ноздри да время от времени крепко, хоть и ненадолго, зажмуривался. Как от усталости… Или как от ветра… Еще так зажмуриваются, когда подступают слезы, и слезы, случалось в иные дни, подступали, но то были редкие минуты умиления и расслабленности, Адвокат терпеть их не мог и начинал, как идущий ко дну захлебывающийся человек, отчаянно барахтаться, хотя внешне и оставался недвижим.
Не надеясь на удачу, все же заглянул по дороге домой в аптеку – а вдруг! – но снотворного, разумеется, не было, и, судя по тому, как досадливо отодвинули потрепанный рецепт, спасительного снадобья не видать ему долго. Оно есть, конечно, – у них все есть! – но только не для Адвоката: что им какой-то Адвокат!
Он не обижается. Если угодно, он даже рад этому. Бережно складывает рецептик, сует во внутренний карман, проверяет, в карман ли, не мимо, и, занавесив глаза бровями, направляется к выходу.
На выложенном плиткой грязном полу поблескивает целлофановая обертка. Не утерпев, на ходу распечатали лекарство – приспичило, стало быть! – заглотали без воды.
Чувство удовлетворения на миг касается легким крылом обреченного на бессонную ночь, но следует отвести – отвести сразу же! – подозрение в злорадстве: Адвокат, как и Мальчик, нуждается в защите. Тут другое. Просто человек, который заглатывает лекарство, секунду или две пребывает в полном, непроницаемом, глухом одиночестве (как, например, во время отправления естественных надобностей), а уж это-то состояние – состояние полного, глухого, непроницаемого одиночества – Адвокату знакомо. Отсюда и удовлетворение: хоть что-то знакомо в этом ошалело меняющемся, новом что ни день мире… Помешкав, медленно и твердо наступает на целлофан, тот громко всхрустывает.
Рядом с аптекой, через стенку, располагается булочная, хвост очереди высунулся из стеклянной двери на крыльцо, – молчаливый, темный, угрюмый хвост, туловище же внутри хоронилось, в душной тесноте, пряталось, как прячутся те ночные, с подрагивающими носами, твари. Можно было б, конечно, сперва занять очередь, а уж после отправиться в аптеку, у него, помнится, такая мысль мелькнула (Адвокат – человек предусмотрительный), но прошествовал мимо – куда спешить! – и вот теперь, не спрашивая, кто крайний, вообще без единого слова, пристроился в конец. Он вообще скуп на слова, хотя в очередях вступает иногда в разговор, бывает даже – кто бы поверил! – довольно любезен, а то и отпускает своим сипловатым голосом шуточки. Правда, все это в обычные дни, во время же полнолуния рот его крепко замкнут, и разве что крайняя нужда способна вынудить молчуна расцепить губы.
Сейчас такая нужда была: не на пальцах же показывать кассирше сумму! – а вот у прилавка обошлось: продавщица глянула на чек и подтолкнула четвертинку черного. Или даже не подтолкнула, а оттолкнула – вот именно, оттолкнула! – отпихнула от себя, потому что это была уже собственность покупателя (чек-то взяла!), частица его, и она спешила от частицы этой избавиться. То есть внести свою скромную лепту в ту энергию отторжения, воздействие которой Адвокат испытывал на себе постоянно. Будто некое силовое поле пульсировало вокруг, отгораживая его от окружающих, как отгораживает мертвого от живых река с темными водами. (Терпеливый Перевозчик уже поджидал клиента, вот разве что вместо темной воды – белый лист бумаги, а вместо весла – перо.)
Полиэтиленовый пакет был наготове, Адвокат, даже пальцем не коснувшись обнаженного, пористого, еще теплого – на расстоянии чувствовал! – хлеба, умело насадил на него пакет, встряхнул, так что четвертинка плотно легла на дно, обмотал вокруг нее длинный шуршащий конец и сунул кокон в чемоданчик, «дипломат». (Левый замок барахлил.) До дома, вообще-то, было совсем ничего, можно было б и в руках донести, но возле парадного вечно торчит кто-нибудь, и уж бесцеремонные дозорные эти обыщут дорогого соседа с ног до головы. Не руками обыщут – руки заняты семечками, – взглядами, но сути дела это не меняет. Пусть хлеб не был еще, вопреки хамской уверенности продавщицы, частицей его, но скоро, скоро станет таковой, и он чувствовал потребность спрятать его, укрыть от посторонних глаз, как укрывает целомудренный человек все интимное. (А он был человеком целомудренным; целомудрие начала жизни и целомудрие конца почти тождественны.) Незащищенным, правда, оставалось лицо, но он знал, что лицо его непроницаемо, и спокойно нес его сквозь вечерний гул навстречу бдительному посту у подъезда.
Поглощенные беседой и семечками, дозорные заметили его не сразу, и это дало не только выигрыш во времени, но и психологическое преимущество. Опытный боец, Адвокат прекрасно сознавал, что в подобных случаях крайне важно, кто кого увидит первым.
Увидел он. (Взгляд метнулся из-под бровей, точно клинок.) Лица подъездных кумушек горели, подпаленные солнечными лучами, уже по-вечернему слабыми, последними, а изнутри разогретые жаром самозабвенной беседы, которую он прервал своим вторжением. Вероятно, на них тоже действовало полнолуние: больно уж напряженно, больно уж пристально всматривались в приближающегося соседа. Адвокат поклонился (не размыкая губ!), и ему с готовностью ответили – с готовностью, но немного вразнобой; слова приветствия растянулись во времени, размазались, зато взгляды были остры и точны (тоже клинки, но не такие быстрые) и конвоировали беднягу до самой двери. Спиной чувствовал, как поворачиваются вослед ему головы… (Так, констатировал всевидящий Перевозчик, провожают к месту казни. Так, констатировал Перевозчик, он же соглядатай и хроникер, провожают к пиршественному столу.)

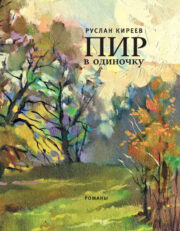
"Пир в одиночку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пир в одиночку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пир в одиночку" друзьям в соцсетях.