После обеда, не заходя в свой холодильник, отправился в соседнюю деревушку Глухово. Это был традиционный маршрут его прогулок – с непременным и обычно безрезультатным заходом в магазинчик, сейчас, увы, оказавшийся закрытым. К-ов поискал табличку с графиком работы, не обнаружил таковой и, повернув обратно, увидел своего автобусного попутчика. Почему-то с чайником топал он, с обшарпанным алюминиевым чайником – шел и улыбался из-под белой шапки как старому знакомцу.
А может, и впрямь знакомцу?.. Может, и впрямь старому?..
Остановившись, глядели друг на друга; один – весело и спокойно, другой – с напряжением, силясь узнать. «Не получается? – посочувствовали К-ову. – Я б тоже не узнал, кабы по телевизору не видел. И книжка твоя есть. С портретом… – Выдержал, поддразнивая, паузу и представился-таки: – Семенов».
К-ов нахмурился. Семенов? Какой Семенов? Неужто Митя?
Так они встретились – спустя двадцать пять лет, больше, чем двадцать пять: то ли с четвертого, то ли даже с третьего курса перевелся Митя на заочное и укатил в свою Чувашию… С тех пор не виделись. Да и не слышал ничего о поэте Дмитрии Семенове, хотя в институте стихи его, пусть и не слишком горячо, но хвалили. То были спокойные, ровные, негромкие стихи, особенно на фойе шумных поэтических деклараций, весьма модных в те эстрадные времена. И все-таки хвалили – даже самые отъявленные экспериментаторы, даже самые злые ниспровергатели. Уж не робость ли испытывали, смельчаки, перед улыбчивым неагрессивным Митей?
К-ову запомнилось, как в колхозе, куда их, первокурсников, послали на картошку, Семенов запрягал лошадь. Похлопывая по загривку, что-то приговаривал низким гортанным голосом, и коняга, скосив глаза, внимательно слушала.
А еще запомнилось, как однажды на семинаре, после страстного выступления К-ова, Митя посоветовал ему: «Не волнуйся… Все у тебя будет хорошо». Без осуждения сказал, без иронии, но беллетрист – тогда еще будущий беллетрист– вспыхнул и принялся объяснять, что не о нем, дескать, речь, о процессе, о тенденциях, еще о чем-то, – Митя внимательно слушал, улыбался слегка, а когда наступила пауза, повторил, прикрыв глаза: «Все у тебя будет хорошо… Вот увидишь».
Теперь К-ов боялся, что бывший сокурсник напомнит давнее свое пророчество, которое, если внешне судить, сбылось. Да, собственно, уже напомнил, вставив (не случайно! – решил мнительный сочинитель) и про телевизор, и про книжку с портретом, но это было еще не главное напоминание. Главное заключалось в том, что Митя не спрашивал о литературных делах. К-ов спрашивал – по-прежнему ли стихи пишет, где служит? – а Семенов нет. Все-то ему было известно…
Стихи писал, но мало, да и стихами не прокормишься, как, впрочем, и переводами, но у него пасека, а на мед в отличие от стихов спрос большой. «Еще бы! – подхватил К-ов, словно в чем-то оправдываясь. – Я б тоже с удовольствием пчеловодом стал».
Митя переложил чайник из одной руки в другую. «Я не стал… Я всегда был им. – Он внимательно посмотрел на товарища студенческих лет. – Разве я не угощал тебя медом? Или ты не в общежитии жил?»
В общежитии, но лишь год, пока не женился, да и этот недолгий срок держался особняком, лелея хилую свою суверенность, – не сподобился, словом, откушать чувашского меда. «Ничего, – утешил Митя, – сподобишься… Скипятим сейчас чайку!» И приподнял посудину, с коей они, теперь уже на пару, торжественно шествовали по середине улицы к родничку. В кране вода разве! «Видел, какая раковина ржавая? Не добурили до артезианской, техническую берут, заразы!»
К-ов попытался вспомнить, какая у него раковина, – кажется, тоже с желтизной…
Родничком оказался обыкновенный с виду колодец, вот разве что крытый свежевыструганый сруб был без ворота – настолько близко от поверхности стояла водица. Митя снял ведерко (звякнула цепь), медленно опустил его, зачерпнул, вытащил без усилия и аккуратненько стал наполнять чайник, что-то при этом ласково приговаривая – как некогда с лошадью. Точно беседовал с водой. (Живой водой.) Точно что-то объяснял ей… Не выплеснув ни капли – достал ровно столько, сколько вместилось в чайник! – повесил пустое ведро на место и неслышно прикрыл створку. Все по-хозяйски уверенно, все по-хозяйски размеренно, будто пользовался целебным этим источником уже много лет. А между тем был в Малеевке впервые – в отличие от К-ова, считавшего себя старожилом здешних мест и тем не менее даже не слыхавшего о родничке. Несколько часов хватило чувашу Семенову, чтобы осмотреться в русской деревне, познакомиться с людьми – кто-то ведь да поведал о колодце! – раздобыть чайник (в промерзлом номере К-ова ни чайника, ни какой другой емкости не было) и даже узнать клички собак, что сыто – отдыхающие подкармливали! – жили при столовой дома творчества. Сразу два пса подлетели к ним, когда приближались с водичкой к главному корпусу.
Не к ним – к Мите: на него глядели страстно, ему виляли хвостом, а он что-то растолковывал им тем же доверительным, как у родничка, голосом, который К-ов отчетливо слышал, но слов – удивительное дело! – не понимал. Будто на особом собачьем языке изъяснялся полиглот Семенов.
Жил он на втором этаже в теплом и уютном номере, совсем небольшом – по сравнению-то с двухкомнатным ледником К-ова. Уже стемнело, и они чаевничали при настольной лампе, гость нахваливал мед, а Митя, приподняв к свету стакан, любовался его золотисто-каштановой прозрачностью. Родничок-то, а? Стекло обжигало, не могло не обжигать, К-ов чувствовал это по своему стакану, но Митя даже пальцами не перебирал. Пальцы были широкими и темными, однако не грубыми, гибкими; белели ухоженные ногти… Поразительно, но чай занимал его больше, нежели студенческие годы, о которых с таким упоением распространялся К-ов, – прошлое для него всегда было осязаемей настоящего, ярче и красочней. «Помнишь, на коньках меня учил? В парке…» То были уроки физкультуры, их проводили на катке в парке Горького, и у южанина К-ова, впервые вышедшего на лед, беспомощно разъезжались ноги. «Помню, – говорил Митя. – Я все помню…» Но говорил спокойно, без воодушевления, без энтузиазма – точь-в-точь как официантка давеча. Тогда беллетрист решил сменить пластинку, о завтрашнем Рождестве завел речь – уж это-то должно быть близко несуетному его хозяину! – но Митя и тут не зажегся. «Рождество, – молвил, – замечательный праздник. Только я, к сожалению, не верующий». И помешал ложечкой чай. «Я тоже», – признался К-ов.
Именно признался – с таким отчаяньем прозвучало это, Митя даже удивленно взглянул на него. «Ну и что? – произнес. – Хотя, – добавил задумчиво, – я думаю о Нем часто. – Поднес стакан ко рту, отхлебнул глоточек, неторопливо, со смаком проглотил. – Если Он существует, то представь, каково Ему там, одному-то!»
После, уже у себя, К-ов напряженно размышлял над этими словами, такими с виду простыми и ясными, открытыми для понимания – подобно тому, как открыты те безлюдные, в целомудренном снегу платформы, на которые, однако, сочинитель книг так и не ступил ни разу… Все у него здесь было, как у Мити, – и стол такой же, и кровать, и кремовые шторы на окнах, которые он, ложась, тщательно задернул, чтобы хоть как-то удержать слабое тепло, – все вроде бы то же самое, но – чужое какое-то, холодное, враждебное ему, странно далекое и при этом незаметно для глаза убегающее все дальше и дальше, точно казенное помещение это непостижимым образом раздвигалось (согрей этакие объемы!), в то время как по-домашнему уютный мирок Мити Семенова становился, ревниво разглядываемый отсюда, все компактней и теплее.
Разумеется, о смерти думал озябший беллетрист, о чем же еще, но не смерть сама по себе страшила его, а небытие. Собственное, персональное, так сказать (у каждого свое!), изолированное, как эта мертвая квартира, небытие, которое представлялось ему куда страшнее перенаселенной коммуналки Дантова ада. А еще представлялось, что Митя прав, и вовсе не затем родился на свет в эту ночь вифлеемский младенец, чтобы мы жаловались ему и искали защиты, а чтобы, когда уж совсем невмоготу, было кого нам пожалеть…
За окном гулко треснула от мороза испуганная ветка. Впереди была долгая ночь, он ворочался в холодной постели, осторожно прижимая ноги к быстро остывающей грелке и предвкушая горячий чай, за водой для которого отправится к родничку по утреннему снегу. Вот только с чем отправится? Да, с чем? Не со стаканом же!
И тут его осенило: с грелкой. Ну конечно с грелкой, почему нет? Митя Семенов одобрит его находчивость.
Стрижка черной собаки на лугу с желтыми одуванчиками
Во-первых, собака у Лилии Анатольевны была не черной, а белой, шпиц, по-видимому (К-ов не разбирался в этом), во-вторых, ее никогда не стригли в его присутствии (если вообще стригли), а в-третьих, не в лесу выгуливали – на московском бульваре. Так почему же, спрашивал себя беллетрист, имеющий вроде бы репутацию недурственного психолога, – почему же картина, которую он наблюдал с невысокого, поросшего кустарником холма: зеленый, яркий, в ярких одуванчиках луг, посередине велосипед стоит, опираясь неизвестно на что, а неподалеку девушка в голубом сарафане стрижет и расчесывает, и любуется, и снова стрижет черного, послушно замершего пса, – почему картина эта воскресила в памяти именно Лилию Анатольевну?
Если не считать жены и ее родителей, а также, разумеется, дочерей, внучки, зятя, – словом, если не считать семьи, то Лилия Анатольевна была в Москве самым близким К-ову человеком. С восемнадцати лет знал ее, со времени своей первой столичной командировки.
Была зима – а московская зима, тревожно предупреждала бабушка, – не то, что наша, поэтому и теплое белье заставила надеть, и шерстяные носки, и конечно, бушлат – его-то в первую очередь.
Бушлат на самом деле был никаким не бушлатом, а потертым, в латках и пятнах, полушубком, который бабушка купила на толкучке у приличного, говорила она, человека, без ноги, правда (книгочею К-ову вспомнился, разумеется, Сильвер из «Острова сокровищ»), и никак, кроме как «бушлат», звать не желала. Уж не полагала ли в наивности, что это плотное, это звучное словцо делает одеяние и теплее, и красивее?

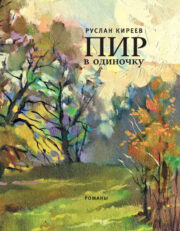
"Пир в одиночку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пир в одиночку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пир в одиночку" друзьям в соцсетях.