На Шурочку не подействовало. Обидчики и здесь достали ее – они доставали ее всюду, особенно в те минуты, когда ей было хорошо. Когда ей могло быть хорошо… На страже стояли – что младший, с головой погруженный в свои темные делишки, что старший, для которого не существовало никаких темных дел. Вообще тьмы, мрака – в вечном свете купался со всеми своими живыми деревяшками, начиная от бесхитростного шахматного коня и кончая вырезанным из темного дерева, пригвожденным к кресту вездесущим бородачом. Они доставали ее и мучили, мерзавцы, терзали, не отпускали от себя ни на шаг, но, кажется, она и не хотела, чтоб отпускали. Не хотела! Без них, понял вдруг Адвокат, неподвижно глядя на скудно освещенный Большой цветок, обронивший (уж не под воздействием ли луны?) мертвый лист, – без них ей было одиноко, даже с ним, единственным ее мужчиной, но она, боясь обидеть его, скрывала это. А тогда не удалось. Тогда, под ялтинским солнцем, выдала себя, но он, предусмотрительный человек, специалист по риску, предпочел не заметить, лишь бы не портить такой день, такой не портить час, такую минуту… Снова зажмурился, но уже не от яркого света, а чтобы не видеть взывающего к прощению и снисходительности лица. Адвокат вообще терпеть не мог обряда прощения: человека, считал он, не прощать надо, а оправдывать, слой за слоем снимая вину с помощью тонкого хирургического инструмента – уж он-то таким инструментом владел в совершенстве. (Если, разумеется, речь не шла о близких: профессиональная этика не дозволяет защищать родственников.) Он зажмурился, но теперь уже солнечные лучи не подействовали на него так, как минуту назад. Мгновенье не повторилось – во всяком случае, тогда, на ялтинской прибазарной площади, но потом оно повторялось неоднократно (ритуал повторения – излюбленный прием Перевозчика), и последний раз – совсем недавно.
Усилие потребовалось Адвокату, чтобы вспомнить, когда именно. В минувшее воскресенье, на озере с нелепым названием Галошевое. Хотя формой своей оно, кажется, и впрямь напоминало галошу. Глубиной тоже… Он давно не брал в руки весла, лет двадцать, наверное, но тяжелая, неповоротливая на первых гребках лодка скоро подчинилась ему и слушалась беспрекословно, что, к веселому удивлению Адвоката, доставляло ему тщеславное, почти детское удовольствие. А тут еще с таким обожанием, с таким восторгом и таким доверием смотрели на него детские глаза! Гребец бережно уложил весла на теплые от солнца борта лодки, и та мало-помалу остановилась. К молчанию – умница Мальчик не лез с разговорами – прибавилась неподвижность, но это были не то молчание и не та неподвижность, в которых пребывал сейчас Адвокат. (Да и Мальчик тоже: электричка встала, Мальчик прижался лбом к стеклу, но не увидел ни единого фонарика.) Молчание, когда ты один, и молчание, когда ты вдвоем, – вещи принципиально разные, Адвокат давно понял это и давно предпочитал первое второму, но сейчас вдруг поймал себя на том, что ему приятно вспоминать о той воскресной лодочной прогулке. Это встревожило его. Он снова надел очки и раскрыл книгу.
Мальчик прижался лбом к стеклу и отчетливо разглядел широко уходящий во все стороны темный лес, над которым низко висела уже бледнеющая, но такая же большая, такая же полная, такая же грузная луна. Будь Мальчик склонен к метафорическим забавам, он бы отметил, что это была уже не царица ночи, не всевластная хозяйка неба, а собравшаяся восвояси усталая гостья, но любознательный Мальчик метафорические забавы, равно как и метафизические, оставил Перевозчику, сам же заинтересовался феноменом сугубо оптическим: рассматривал зыбкое прозрачное отражение вагона, неподвижно зависшее по ту сторону стекла.
Вагон был наполовину пуст, и всех, кто сидел поблизости, Мальчик, пока ехали, исподтишка изучил, но сейчас, за стеклом, это были совсем другие, словно впервые увиденные им люди. Толстая тетенька с корзиной, та самая, которую подвезли на легковушке, выглядела невесомой, как воздушный шар, а сидящий напротив Мальчика небритый мужчина помолодел: жесткая, сизая от седины щетина волшебно исчезла с носатого лица. Он тоже смотрел в окно, но смотрел не на лес, не на луну, не на парящую в сидячем положении высоко над землей тетеньку с корзиной (корзины, впрочем, видно не было), а на Мальчика – только на него. Мальчик сделал вид, что любуется пейзажем, хотя любоваться-то особенно было нечем, лес он и есть лес, – но его сосед по-прежнему не спускал с него глаз. Вот только не с того, что сидел на твердой скамье здесь, в вагоне, а с того, полупрозрачного, что, как и тетенька, висел за стеклом. Но так было даже хуже. Здесь его надежно защищала плотная, не проницаемая для взгляда одежда, а там, за стеклом, одежда сделалась тонкой, почти растворилась в призрачном свете, смеси лунного с отраженным вагонным, – и вдруг обнажила тайник за пазухой? Вдруг небритый человек видит и Чикчириша (Чикчириш, слава богу, спал), и новенькие блестящие денежки? Стоит шевельнуться, и они захрустят на весь вагон – такая всюду стояла тишина. Всюду – и по ту сторону стекла, и по эту, что делало мир единым целым, как будто не существовало больше никакой металлической перегородки между вагоном и обступившим его лесом.
Но это как раз не пугало Мальчика. В отличие от Адвоката, стремящегося замуровать себя в каменной оболочке дома, ему нравилось открытое пространство, что ни в коей мере не переходило в боязнь пространства замкнутого.
Мальчик не страдал клаустрофобией, если только не считать таковой страх оказаться запертым в самом себе.
Сейчас, впрочем, он даже хотел этого, ибо существовала угроза, что небритый попутчик может проникнуть в его тайну. Если уже не проник: Мальчику показалось, что отражение соседа подмигивает ему. Он отвел глаза, нахмурился, будто стараясь разглядеть что-то за стеклом, и тут электричка дернулась, судорогой пробежал из конца в конец металлический лязг, и освещенные луной деревья медленно поползли назад, а зависшая в воздухе полупрозрачная тетенька, и он сам, и подмигивающий мужчина остались неподвижны. Мальчик отвернулся от окна, но не рассчитал и угодил взглядом на своего невежливого спутника, теперь снова обросшего щетиной. Тот улыбался. Не подмигивал – больше не подмигивал, – а просто улыбался. Затем вытянул ладонями вниз руки, сплошь покрытые татуировкой, приставил одну к другой, и получилась птица. Синяя птица с распростертыми крыльями, которая медленно и очень похоже летела, когда руки шевелились. Таких татуировок Мальчик еще не видывал.
Электричка, наверстывая упущенное время, набирала скорость; колеса стучали так громко, что если б даже Мальчик пожелал сказать что-либо, его все равно б не расслышали. Но он не желал. Да попутчик и не ждал от него никаких слов – просто ему, видать, захотелось похвастаться птицей.
Мальчик тоже мог похвастаться, и не нарисованной, а живой, настоящей, но, во-первых, Чикчириш спал, а во-вторых, было бы предательством обращаться с раненым другом, как с игрушкой. Хотя в этом его как раз и обвинили. (Несправедливо! Они были несправедливыми людьми, Мальчик давно знал это.) Просто им хотелось избавиться от больной птицы, вот и придумали, что это, мол, тебе не игрушка, надо ее на волю выпустить (где ее моментально слопал бы кот), и он буркнул в ответ что-то такое, что можно было принять за согласие, а сам спрятал воробья в банку и прикрыл черепицей. Теперь его долг передать Чикчириша в надежные руки; так чувствовал Мальчик, хотя торжественное слово «долг» не произносил даже мысленно.
Зато Адвокат произносил его часто. Он был человеком долга, Адвокат, законник, страж порядка, поборник справедливости, – он был человеком долга, и уж тем более человеком, отдающим долги, смертельно боящимся, не осталось ли за ним случайно какого-нибудь маленького должка. Маленького, забытого, старого должка – новых давно уже не делал. Даже когда сами предлагали какую-нибудь услугу и предлагали бескорыстно, от души, обижаясь, что отказывается. Не делал…
Он и Шурочкиным обидчикам старался привить это чувство – великое чувство долга, но младший чесался, вертелся и ничего не слушал (он и в жизнь-то не вошел, а ввертелся этаким победоносным штопорком), а старший глядел, не мигая, своими большими карими глазами и ничегошеньки не понимал.
Неужели ничегошеньки?
Вот так же в книгу глядел сейчас измученный бессонницей любомудрый Адвокат, но вместо печатных строчек увидел вдруг эти беспомощно-доверчивые – ничегошеньки не понимал! – глаза, и сердце его трепыхнуло, словно то было и не сердце вовсе, а раненый воробей в сложенных утюжком ладонях.
Медленно опустил Адвокат книгу. Ни о каком воробье он, разумеется, не думал, он понятия не имел, что ему везут на предмет спасения какого-то Чикчириша (Мальчик, коснувшись рубашки, ощутил сквозь ткань мягкий комочек), но сердце трепыхнуло, это точно, и потому-то мученик ночи, опустив книгу, принялся – в который уж раз! – тщательно, как принятое к производству дело, просматривать свои отношения с детьми.
Не с обидчиками – с детьми. Все в порядке было там – в абсолютном порядке, свой родительский долг он выполнил сполна, равно как выполнила его и Шурочка (Шурочка с лихвой), и не их вина, что один получился чересчур медлительным – медлительным настолько, что никакой жизни не хватит ему, чтобы вырасти, а другой – слишком шустрым.
Иное дело – Мальчик, этот мог поспеть в самый раз, врасплох застав его со своим воробьем. Электричка вошла-таки в график и к очередной платформе подкатила тютелька в тютельку. Пассажиров на этой ранней платформе не было – ни единого человечка! – никто не вошел и никто не вышел, но поезд все равно послушно отстоял положенное. Это неукоснительное соблюдение порядка, это следование букве закона, как выразился бы Адвокат, вселило тревогу в малолетнего нарушителя. Незаметно пощупал он в кармане билет – билет был на месте, но все равно могут подойти, обыскать могут, спросить, откуда деньги. (О Чикчирише не спросят, на этот счет Мальчик не волновался.)

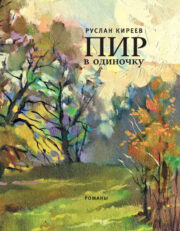
"Пир в одиночку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пир в одиночку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пир в одиночку" друзьям в соцсетях.