Костя высчитал угол поворота домой по отношению к дороге и нашел, что он нерационален. Именно такой угол дает возможность создания сквозных ветров в квартале. Он писал ядовитое письмо в «Литературку», когда услышал шум. Последнее время – он заметил – Вера стала громко говорить. Он еще не делал ей замечания, но, пожалуй, пора, что это за крики, у него лопаются барабанные перепонки. Вера стремительно вошла и закрыла за собой дверь, и ухнулась прямо рядом на диван, что тоже было против правил: позвоночнику требовалась неподвижность, а сидящая рядом Вера слишком прогибала диван и этим вредила, вызывая возможное обострение. Костя посмотрел на Веру сурово, но снова ничего не сказал: жена была не в себе.
– Что делать? – спросила она. – Что делать? Нашего дурачка сына опутала дочь твоей бывшей возлюбленной. Он пришел от нее выпивши… И собирается жениться…
Косте показалось, что его силой вытаскивают из теплой душистой ванны, вытаскивают в холодное, сырое помещение на сквозняк, на цементный пол… Приходится ежиться, хлопать ладонями по бокам, притопывать ногами, чтобы прийти в себя, а все эти движения им забыты и доставляют неудобства.
– Какой моей возлюбленной? – спросил он слабым голосом, призывая на выручку верного своего друга – Болезнь.
Но Вера сегодня сама не своя. Она кричит даже на него, больного!
– Какой? А у тебя их сколько было? Сто? Двести? Тогда уточняю – Людмилы Сергеевны. Лю-у-си! Люсеньки!
Что-то мучительно сладкое кольнуло в сердце и вызвало тахикардию. Вспомнилось, как старуха Эрна так обещала, так сулила ему счастье… «…Теперь, после этого вертопраха, она вас оценит, Костя!»
Вера тогда кормила Романа. Какой Костя был счастливый от посулов Эрны, а главное, можно было не скрывать радость: все понимали ее однозначно – сын же родился!
Старуха обманула. Ну и бог с ней. Как бы еще все сложилось с Люсей, она вся такая эмоциональная, экспансивная, с Верой ему покойней. Пусть она только говорит тише и не бухается на диван.
– Что делать? Я тебя спрашиваю. Что делать?
– А почему такая паника? – освободившись от тахикардии, спросил Костя. – Ну, влюбился, ну и что?
Вера второй раз за такое короткое время испытала жгучее чувство ненависти – теперь к мужу. Увиделось сразу все: и постоянное лежание, и бессмысленные подсчеты чьих-то просчетов, и то, что нет у нее мужчины в доме, а значит, снова, как всегда, придется все решать самой. А что решать и как решать, она не знает.
– Ну, влюбился, ну и что? – снова спросил Костя, чувствуя, как прежнее умиротворенное состояние охватывает его и уже не надо притопывать и поеживаться.
– А если они начали жить половой жизнью? – просвистела Вера.
И Костя захохотал. Ну можно ли придумать что-то более глупое? Роман – еще ребенок. Костя сам в этом отношении развился поздно. И потом… Где? Когда? Мальчик все время дома, ну вот сегодня уходил, но ведь на улице был день… Да и не такой он… Он робкий, жалостливый, а это, извините, несколько насилие… Он, Костя, сам в свое время этого боялся… Надо, чтобы нашлась опытная женщина, а так, девчонка, сверстница… Это невообразимая чушь!
– Не паникуй, Веруня! – сказал он ласково. – Ничего у него нет. Целуется где-нибудь украдкой в лифте.
– Ты что, не видишь современную молодежь? – зло спросила Вера. – Им же на все плевать. Они готовы отдаваться на глазах у всех!
– Молодежь во все времена одинакова! А первый признак старости, Веруня, брюзжание на ее счет. Рома! – закричал Костя громко. – Что ты делаешь, сынок?
– Решаю математику! – ответил Роман.
– Вот видишь! – усмехнулся Костя.
– От тебя помощи, как от козла молока, – сказала Вера. – Надо думать самой.
Она ушла в кухню и за привычной возней снова и снова вспоминала слова Романа. Что он имел в виду, говоря о доказательствах? Может, просто словесная клятва, тогда это ничего. Слов столько, что, если их бояться, вообще жить не стоит. Уехать бы куда, уехать… Опять же десятый класс, куда тронешься? Надо было после девятого отправить его в Ленинград. У нее сестра учительница, она так прямо и предлагала: «Привози, сделаем Ромке медаль». Но потом прикинули, какой от нее, от медали, нынче прок, в вузе все равно экзамены. А надо было увезти на годик. Себя тогда пожалела – как без него? Год бы прошел незаметно, да и дорога в Ленинград скорая, можно было бы на субботу и воскресенье ездить… И мама всегда бы выручила деньгами – у нее персональная пенсия остается полностью. Ленинград, Ленинград… В этом слове была надежда. Был выход. За этим словом стояла вся Верина семья, готовая ринуться на помощь, если понадобится. Они не Костя. Они не отмахнутся. Они поймут. И помогут. Вера, если и не успокоилась совсем, то все-таки увидела какой-то выход на случай разных обстоятельств.
Вот какое письмо получил Роман:
«Рома! Ты меня стал избегать. Я выхожу из класса, а тебя уже и след простыл. А может, это случайность?.. Но я хочу тебе сказать, что ты все это напрасно делаешь. Я стойкий человек и все вынесу. Твоя Юлечка не способна и на сотую часть того, на что способна я. Я готова для тебя на все, хоть сейчас. И я буду всю жизнь там, где ты. Я в институт поступлю в тот, где ты, хоть студенткой, хоть уборщицей. Так что можешь убегать, можешь не убегать – все равно. А Юлечку выдадут замуж за того, у кого есть машина. Я ее мамочку хорошо знаю. А твоя мама – простая труженица, как и моя. Всю жизнь вкалывает. А это тоже, Рома, важно, кто чей сын или дочь. Я не такая дура, как ты думаешь, разбираюсь в жизни. Поэтому давай договоримся ходить из школы вместе.
Письмо лежало сверху на Романовом столе, и Вера его прочла. Потом она накапала двадцать капель настойки пустырника, двадцать капель боярышника и запила всем этим таблетку седуксена. Десять минут назад Роман ушел в универсам за молоком и кефиром. И ведь всегда в одно и то же время. Думалось, это от его четкости, организованности, а оказывается, весь «универсам смеется». Но больше всего Веру возмутило это сравнение ее с парикмахершей, Алениной матерью. Знала она ее, считай, с первого класса, кто ее не знал, крикастую бабу. И что же они – ровня? Вообще-то, конечно, странные это мысли для нашего времени, когда все равны, но почему ее к одной приблизили вплотную – «простая труженица», – а от другой отделили пропастью? От этой треклятой Лю-у-си, Люсеньки. Но ведь если пропастью, то это хорошо! Ведь она порядочная женщина, а кто та? Вера кипела бы гневом, не выпей она столько всего, а сейчас ее поедом ела вялая, но какая-то прилипчивая обида, хотелось плакать со стоном, но плакаться было некому, и она, надев самые удобные туфли, пошла в универсам. И нашла их сразу.
Они сидели, прижавшись лбами, на своем «берегу», а Сеня и Веня лежали зелеными носами у них на коленях.
– …Мой отец постоянно дома, даже в хорошую погоду…
– Я думала о бабушке Эрне. Надо бы ей купить билеты в кино.
– На пять серий…
– На одну бы… Но она безумно хитрая. Сразу заподозрит.
– Ты только не страдай. Ладно? Ну, переживем мы этот год. В конце концов, это-то место всегда наше.
– Я просто не понимаю, почему мы должны мучиться? Какой в этом смысл?
– Все влюбленные во все времена мучились. Такая у господа бога хорошая традиция! А традиция, Юля, это – о! Не переплыть, не перепрыгнуть!
– Ты все шутишь. Если бы я могла все время слышать твой голос, я бы все переносила иначе.
– Я наговорю тебе пластинку.
– Слушай! Наговори! Запиши все, все твои шутки, и я буду их слушать.
– Какие шутки, Юлька?
– Какие хочешь…
– Я лучше скажу, как я тебя люблю…
– Нет, это не надо. Это я знаю. Что-нибудь неважное. Просто твой голос… И он будет у меня все время звучать. Хоть таблицу умножения…
Вера ждала, когда они поднимутся. А они не вставали. И тут она почувствовала ту их отдаленность от всех, о которой сами они не подозревали. Значит, это так серьезно? Она посмотрела на продавщиц игрушечного отдела. Безусловно, они их знают. Переглядываются между собой понимающе. Одна, снимая с полки плюшевого мишку, сказала другой: «Завидую». Может, совсем по другому поводу, но Вера решила: о них, о ком же еще? И тогда она растерялась: что же делать? Как было бы хорошо, если б вокруг действительно смеялись или показывали пальцами, как писала эта девочка, тогда можно было бы подойти и взять сына за руку, и вывести его из круга, в который он попал, и сказать: «Смотри, дурачок, над тобой смеются». Но подойти было нельзя. Они были вне ее досягаемости, как и вне досягаемости всех. «Надо звонить в Ленинград», – подумала Вера и пошла назад, не оглядываясь, потому что все равно видела их перед собой, прижавшихся и отделенных. Что она скажет? Маме, сестре? В какую-то минуту она хотела повернуть назад, потому что представила всю бессмысленность разговора по телефону. «Мама, Роман влюбился». – «Ну и что?» – «Хочет жениться». – «Глупости. В десятом-то?» – «А сейчас сидит в универсаме с ней. Никого не видит. Я была от него за три метра». – «А кто она? Она кто?» – «Ах, вот это самое главное. Она дочь Костиной возлюбленной. Той самой, за которой, позови она его сейчас, и он уйдет. Даже выздоровеет, если она этого захочет».
Вот оно, самое главное. Почему это? Потому что Лю-у-ся, Люсенька не могла полюбить Костю, а эта девчушка – ее дочь. Бедный Роман, бедный мой мальчик! Сидишь там такой прекрасный, а потом будешь прыгать ради нее через газон. И никому, слышишь, никому, кроме матери, нужен не будешь.
– Как что делать? – затараторила сестра уже на самом деле. – К нам немедленно! Не хватало нам женитьб в десятом. Все было – этого еще не было! Веруня! Не будь рохлей. Это такой возраст, это все естественно, но никому не вредило хирургическое вмешательство. Только благодарят потом. Десятый класс! Ты что, считаешь, что он там сейчас учится? Другая школа – это полумера. Я тебе это сразу говорила. Сюда, сюда… У нас другой климат – и в прямом и в переносном смысле. Мы его остудим… Как? Минутку, минутку… Соображаю… Веруня! Это просто… Он у тебя человек долга? Да ведь? Надо его этим купить! Именно этим, слушай…

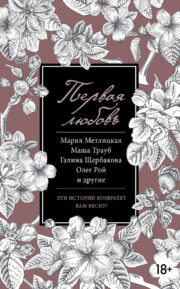
"Первая любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Первая любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Первая любовь" друзьям в соцсетях.