— Неужели? А что же я вам тогда пошлю в следующем квартале?
— Можете не беспокоиться, я не попрошу у вас ни пенни вперед! — сказал Жерар торжественно.
— Да вы и не осмелитесь, разве не так? — сказал Ротерхэм, открывая секретер, стоявший в конце комнаты, и вынимая из него шкатулку. — Вам придется обратиться к своей матери. Ну ладно, раз уж частично моя вина, что вы оказались в стесненных финансовых обстоятельствах, я одолжу вам фунтов пятьдесят. Ну а когда в следующий раз вы пожелаете меня выбранить — сделайте это в письменном виде.
— Если вы отказываетесь мне дать вперед мои же собственные деньги, я приму ваши лишь в долг, — заявил Жерар. — Я все верну, как только достигну совершеннолетия.
— Как вам будет угодно, — пожал плечами Ротерхэм, открывая шкатулку с деньгами.
— Я оставлю вам расписку.
— Обязательно. Ручка у меня на столе.
Жерар бросил в его сторону взгляд, полный презрения, вытащил из ящика первый попавшийся лист бумаги и дрожащей рукой написал обязательство. Затем швырнул гусиное перо на стол и сказал:
— Я выполню это обязательство сразу же, как войду в права собственности. Ну а если сумею, то и гораздо быстрее. Я вам признателен. До свидания!
Затем он запихнул протянутые ему деньги в карман и поспешил вон из комнаты, с грохотом захлопнул за собой дверь. Ротерхэм убрал на место шкатулку и медленно вернулся за свой рабочий стол. Он взял расписку и начал рассеянно рвать ее на мелкие части; брови его были сдвинуты, губы сжаты.
Глава XVIII
Мистер Монкслей приехал в Бат затемно в весьма мрачном настроении. Когда юноша отдал распоряжение почтальону взять курс на Бат, он был вне себя от гнева, а сердце переполнял страх. Сцена, которую только что бедняга пережил, бросила его в дрожь, он был ввергнут в ярость острым языком Ротерхэма, только гордость удержала от нервного срыва и позволила скрыть охвативший его ужас под внешней бравадой.
Жерар был в одинаковой степени робким и необыкновенно чувствительным, а так как воображение его было острым и он был склонен к мрачного рода фантазиям, то воображал, что люди, о нем вообще не думавшие, его критикуют. Предчувствие юношу всегда страшило больше, чем само действие, а когда с ним обращались резко, он просто заболевал. Желание произвести впечатление человека значительного вызывало в результате впечатление полного отсутствия уверенности в себе, все это он пытался спрятать под нахальными манерами, что могло лишь вызвать презрение опекуна. Никогда еще не встречались люди, менее подходящие друг другу; Жерар совершенно не нравился Ротерхэму, но и худшего опекуна, чем он, трудно было найти для мальчика, вылепленного из смеси застенчивости и тщеславия. Жерар стремился произвести впечатление на своего опекуна, но в то же самое время боялся, что этот человек начнет его презирать, поэтому юношу и поверг в такой трепет тяжелый взгляд ярких твердых глаз. Взгляд Ротерхэма не выражал ни зла, ни высокомерия; в нем даже не было любопытства, но он совершенно выбил подопечного из колеи. У юноши было ощущение, что взгляд впился ему прямо в мозг, и опекун увидел сразу все то, что он пытался скрыть. Даже когда Ротерхэм был спокоен, Жерар чувствовал себя не в своей тарелке, а когда позже он увидел его в гневе, то просто пришел в ужас. Естественную резкость своего опекуна он принял за выражение неприязни; в каждом его отрывистом слове он читал угрозу; ну а уж если маркиз повышал голос, то Жерар был уверен, что краткая, но оскорбительная брань является лишь увертюрой к ужасному разносу. Тот факт, что единственный раз, когда заслуженное наказание все же настигло его, оно не оказалось ни ужасным, ни жестоким, странным образом юношу не разубедил. Он приписал необъяснимому чуду, что отделался легким испугом, потому что, по его убеждению, всякий раз, когда он раздражал Ротерхэма, то оказывался на волоске от наказания.
Сомнительно было, что Ротерхэм, с его крутым нравом и большой энергией, мог бы проникнуться симпатией к такому деликатному и нервному молодому человеку, как Жерар; однако он не был бы столь нетерпим к юноше, если бы тот не был склонен к нытью. Став опекуном, Ротерхэм поначалу приглашал его на разные сельские празднества, понимая, что, как бы ни раздражал его этот мальчишка, он все же обязан проявлять к нему интерес, обучая охоте, стрельбе из ружья, рыбной ловле, боксу. Но очень скоро он осознал, что Жерар не только не был ему благодарен, но, напротив, рассматривал эту заботу как тяжкую повинность. Ротерхэму все это быстро прискучило, да к тому же он услышал однажды, как после постыдно неудачного дня, проведенного в седле, в течение которого он, кажется, не избежал ни единого ухаба на своем пути, Жерар жаловался одному из слуг на невыносимый характер Ротерхэма. Ротерхэм, абсолютно равнодушный к восхищению или неодобрению, презирающий обман, ощутил приступ неожиданной усталости и начал смотреть на своего подопечного не только с полным безразличием, но с определенной долей презрения. Даже мягкость Жерара раздражала его. Ему больше нравился неунывающий Чарльз, чье стремление оказаться в какой-нибудь опасной ситуации заставило Ротерхэма заявить, что никогда в жизни он не позволит ему оставаться в его поместье; однако как только Чарльз перерос свое склонное к разрушительству младенчество, опекун сразу же приказал держать двери для него открытыми и взял его под свое крыло. Чарльз вызывал у него приступы гнева, но не презрения. Только что этого дьяволенка строго наказывали за то, что он подстроил идиотскую ловушку дворецкому, в результате которой была побита масса посуды, как полчаса спустя Чарльз врывался в комнату и заявлял, что только что стрелой, выпущенной из лука, подбил одного из павлинов. Чарли не находил ничего устрашающего во взгляде Ротерхэма, от которого его старшего брата начинало трясти; когда же ему начинали угрожать страшными наказаниями, мальчик лишь улыбался. Он был ужасно невезучим, безумно упрямым и совершенно не склонным уважать какие бы то ни было запреты. Ну а так как все эти хулиганские поступки обязательно вызывали очередной приступ гнева у опекуна, то ни Жерар, ни миссис Монкслей не могли понять, как это Чарли совершенно не боится Ротерхэма и не впадает в уныние.
— Кузен Ротерхэм любит таких людей, которые в состоянии ему противостоять, — говорил Чарльз. — Хотя он умеет настоять на своем.
Однако сегодня Ротерхэм был вовсе не склонен проявлять терпимость, с горечью подумал Жерар, не в состоянии понять той пропасти, которая отделяла его тщательно отрепетированную сцену неповиновения от природной отваги. Опекун впал в такой гнев, что несколько минут подряд Жерара буквально трясло от ругательств, непрерывным потоком срывавшихся с его губ. Жерару было совершенно не стыдно за свой поступок, но казалось, его вызов абсолютно не произвел впечатления на Ротерхэма. Юноша был зол, напуган, глубоко потрясен. Но по мере того как расстояние между ним и Клейкроссом увеличивалось, нормальное настроение его восстанавливалось, он перестал дрожать от сознания того, что посмел выразить неповиновение Ротерхэму, и начал обдумывать, каков будет результат подобного поведения. В конце концов Жерар решил, что вышел из этой ситуации вполне благополучно. Но от мысли, что он дал достойный отпор Ротерхэму, был один шаг до того, чтобы проникнуться уверенностью, что именно так он и сделал, потому ко времени прибытия в Бат юный Жерар Монкслей убедил себя, что сегодня он преподнес своему опекуну достойный урок.
Гостиницу Жерар выбрал в самом скромном районе города и расположился там с твердым намерением узнать адрес Эмили. Но прошло два дня, прежде чем он увидел ее входящей в Памп Рум вместе со своей бабушкой и лишь тогда наконец сумел приблизиться к ней. Задача обнаружить дом леди, чье имя он не знал, оказалась чрезвычайно сложной.
Эмили была очень удивлена встречей и оказала ему искренний и теплый прием. Жерар был для нее милым молодым человеком с приятными манерами, воплощением элегантности и обаяния. Он демонстрировал свою любовь к Эмили очень робко, и страсть его была выражена с таким почтением, что не вызвала ни малейшей тревоги у хорошенькой девушки. Во время пребывания в Лондоне Жерар Монкслей оказывал ей постоянные знаки внимания, именно с ним она начала впервые флиртовать. Эмили не слишком глубоко задумывалась над их отношениями и поэтому воспринимала его признания не более серьезно, чем свои собственные. Эмили помнила, что в течение недели ощущала себя весьма неважно, оттого что мама запретила им видеться, но в конце концов она оправилась от постигшего ее разочарования. И вскоре в толпе Пинксов, Тьюлипсов, Бо, Хай Стиклеров, с которыми она познакомилась, она забыла имя Жерар.
Однако девушке было приятно увидеть своего элегантного поклонника вновь, и она сразу же представила его бабушке.
Встреча с миссис Флор оказалась для Жерара Монкслея шоком, потому что, хотя мама часто говорила о леди Лэйлхэм как о вульгарной особе, он мало обращал на это внимания. Подобные характеристики не были исключительными в устах миссис Монкслей, которая начинала браниться с любой леди, встреченной на своем пути. Однако вульгарно-грубоватый вид миссис Флор, которая была облачена в ярко-пурпурные одежды, поразил его настолько, что он чуть не засмеялся. Но Жерар был хорошо воспитан, поэтому он сумел скрыть свое изумление и отвесил ей вежливый поклон.
Миссис Флор Жерар понравился. Ей нравились приличные молодые люди, а Жерар произвел на нее впечатление в высшей степени воспитанного молодого человека, к тому же он был одет с иголочки и выглядел респектабельным джентльменом. Однако ее острый взгляд сразу уловил страсть, когда он подошел к Эмили, поэтому пожилая дама решила держать ухо востро. Не будет никакого прока от того, что этот юнец станет волочиться за внучкой и вызовет волну сплетен в Бате. И не дай Бог, если они дойдут до ушей Ротерхэма! Поэтому, как только она услышала, как он спрашивает Эмили, будет ли та в Лоуэр Рум этим вечером, миссис Флор вмешалась и заявила, что Эмили должна остаться дома, чтобы сберечь силы для гала-бала в Сидней-Гарденз на следующий вечер. Жерар воспринял эти слова с должной вежливостью, но сама Эмили бурно воспротивилась запрету. В ее манерах было больше от протеста ребенка, которого лишили обещанного, чем от возмущения девушки, которой не дают возможности пофлиртовать со своим поклонником, поэтому миссис Флор заколебалась и сказала, что она еще посмотрит. Ей, естественно, и в голову не пришло, что Эмили может иметь сердечную привязанность к кому бы то ни было, кроме своего жениха, хотя она прекрасно понимала, что Эмили любила (хотя и в очень невинной форме) поощрять ухаживания своих поклонников, что было весьма некстати в нынешнем ее положении. Одно дело, когда девушка обходительно беседует с молодым человеком вроде Нэда Горинга, которого никто и никогда не заподозрил бы в том, что он может позволить себе некоторые вольности; и совсем другое дело — этот юноша, который, возможно, станет думать, что Эмили станет приветствовать его ухаживания.

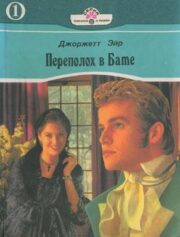
"Переполох в Бате" отзывы
Отзывы читателей о книге "Переполох в Бате". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Переполох в Бате" друзьям в соцсетях.