— Замужем! — вскричал я. — Ты замужем! Это неправда!
— Фактически это неправда; но в моих глазах я бесповоротно связана. Я связала свою совесть и всю жизнь клятвой, составляющей мою силу и мою религию. Я действительно люблю одного человека и люблю его вот уже пять лет.
— Это неправда! — повторил я гневно. — Эта басня стара и предлог этот никуда не годится. Вы сказали раз Белламару при мне в Париже, когда я лежал еще больным и притворился спящим, что это неправда.
— Ты это слышал! — продолжала она, краснея. — Если так… то тем более.
— Объяснитесь.
— Невозможно. Все, что я могу сказать, — это то, что я скрываю свою тайну, а особенно от Белламара. Ему-то я и лгу и буду лгать, пока это будет нужно. Он-то именно и мог бы угадать, а я не хочу, чтобы он угадал.
— Тогда ты, значит, любишь Леона?
— Нет, я клянусь тебе, что не Леона. Я никогда о нем не думала, а так как после него можно подумать только о Ламбеске, то я прошу тебя избавить меня от унизительных отрицаний и не подвергать меня более бесполезному допросу. Я всегда была искренна с тобой, всегда! Не наказывай меня за это своим недоверием. Не причиняй мне еще лишние страдания, довольно и теперешних мук.
— Ну, если так, друг мой, будь искренна до конца: скажи мне, счастлива ли ты и любима ли?
Она отказалась отвечать мне, и я перестал владеть собой; эта непонятная тайна выводила меня из себя. Я стал так громко жаловаться на это, что вырвал у нее часть правды, согласную — увы! — с тем, что Империа уже сказала мне полусерьезным тоном в Орлеане, по дороге к вилле Вашара. Она никогда не открывала своей любви тому, кто был предметом ее; он даже ничего не подозревал. Она была уверена, что он был бы счастлив в тот день, как она сказала бы ему о ней; но день этот еще не пришел; ей предстояло подождать еще года два или три. Она хотела остаться свободной и безупречной, чтобы внушить доверие этому человеку, страшившемуся брака. Где находится этот человек? Чем он занимается? Где и когда видится она с ним? Она ни за что не хотела этого сказать. Когда я высказал предположение, что он находится неподалеку от места жительства отца Империа и что она встречает его там ежегодно, когда ездит навещать больного отца, она отвечала: «Может быть», — но тоном, как бы означавшим: «Верь этому, если тебе так угодно; никогда тебе не угадать правды».
Я отказался от этого намерения, но сделал тогда все, что только возможно, чтобы доказать ей, до чего безумна ее романтическая страсть. Она ни в чем не была уверена наперед, даже не была уверена, нравится ли, а между тем приносила свою молодость в жертву мечте, предвзятой мысли, походившей на манию.
— Ну что ж, — отвечала она, — это похоже на твою любовь ко мне. С самого начала ты узнал, что я люблю отсутствующего. Я сказала это во всеуслышание, когда в фойе «Одеона» ты взглянул на меня впервые чересчур выразительно. Я повторяла тебе это при всяком подходящем случае, и это так. Не имея возможности добиться моей любви, ты захотел моей дружбы. Ты завоевал ее, она твоя. Ты довольствовался ею три года, ты не захотел променять ее на такие волнения, которые совершенно напрасно измучили бы нас. Ты знаешь, что я убежала бы! Ты чувствовал себя счастливым с нами даже среди самых больших бед и самых горьких испытаний; мы все любили друг друга с энтузиазмом и, сознайся, что были дни, недели, пожалуй, даже целые месяцы, когда мы были так возбуждены, так экзальтированы, что ты радовался тому, что ты мне только друг. В такие минуты тебе не захотелось бы, чтобы я променяла наше рыцарское братство на бури, горячку и прихоти, на огне которых сгорает наша бедная Анна. Ну что ж, моя жизнь свихнулась, как и твоя; господствующая над всем остальным идея, тайное предпочтение, некая мечта о будущем превратили нас в двух безумцев, которые обязаны взаимно понимать и прощать друг друга. Ты говоришь, что я — твоя idée fixe; позволь же и мне иметь свое серьезное, неизлечимое помешательство. Мы, актеры, не живем действительно общественной жизнью; мы вне всяких условностей, хороших или дурных, внушаемых разумом людям предусмотрительным и степенным. Их логика не наша. Как бы ни исчезал предрассудок против нас, мы все-таки стоим особняком, и те, которые хорошо бы нас узнали, сказали бы, что мы, вместе с благочестивыми мистиками, являемся последними последователями идеала сверхобщественного, сверхпрактичного, сверхчеловеческого. Всякому человеку, связанному с миром в его настоящем виде, можно сказать: «Куда вы идете? К чему это вас приведет?» Этот человек, если он на пути к безумствам, растерянно останавливается и не видит перед собой ничего, кроме стыда и самоубийства. Мы же, когда нас спрашивают, куда мы идем, отвечаем, смеясь, что идем вперед для того, чтобы не останавливаться, и будущность наша всегда населена призраками, смеющимися еще громче, чем мы. Уныние овладевает нами только тогда, когда мы не можем больше рассчитывать на случайность. Не говори же мне, что я сошла с ума. Я это отлично знаю, раз я стала актрисой, и ты тоже сумасшедший, раз ты стал актером. Тебе понадобился кумир — мне он понадобился еще раньше, до знакомства с тобой; мы встретились слишком поздно.
Мне показалось, что она права, и я перестал спорить; я даже смутился, когда она спросила меня, что бы мы теперь делали, если бы мне удалось заставить ее полюбить себя.
— Разве ты свободен? Разве ты не принадлежишь известному долгу, родине, отцу, труду, отличному от нашего? Не было ли большим безумством с твоей стороны привязаться к нам, не имеющим более ни родины, ни семьи, ни дома вне нашей «бродячей овчарни»? Не приготовил ли ты нам огромное горе, отдав нам несколько лет твоей молодости, зная, что тебе придется отступиться потом от нас? Что бы стал ты теперь делать со мной, если бы я была твоей подругой? Я не знаю, есть ли у тебя действительно на что жить, и мне это было бы совершенно безразлично, лишь бы мы могли трудиться вместе; но могли ли бы это тогда? Мог ли бы ты хоть доставить мне такое убежище, откуда меня не прогнали бы, как бродягу? Последний из ваших крестьян не считал ли бы себя вправе презирать и оскорблять мадемуазель де Валькло, фиглярку? Ты видишь сам, что ты должен почитать счастьем для себя, что не взвалил на себя такой долг, исполнять который ты не мог бы.
— Зато, — сказал я, — я не пришел сюда просить твоей руки; но мне казалось, что сердце твое свободно и что ты можешь сказать мне: «Надейся и вернись». Мне сказали, что бедному отцу моему осталось жить всего лишь несколько лет, пожалуй, несколько месяцев. Я хочу посвятить себя тому, чтобы возможно дольше продлить его жизнь, и это без сожаления, колебания и нетерпения. Задача моя не пугает меня; я ее выполню, что бы ни ждало меня в будущем; но будущность — это ты, Империа, а ты не хочешь, чтобы моя самоотверженность жаждала награды? Я часто говорил тебе, что наследую со временем состояние, правда, весьма небольшое состояние, но весьма достаточное для того, чтобы продлить и, может быть, подкрепить наше товарищество. Я с радостью принял бы эту общность интересов с Белламаром и его друзьями…
— Нет, — сказала Империа. — Белламар не принял бы. Все это безумно, мой бедный Лоранс! Не станем смешивать интересов мира с интересами богемы. Белламар не станет никогда занимать иначе, как с отдачей, и только он один может спасти Белламара.
— По крайней мере, мне позволят, — снова заговорил я, — оставаться товарищем его и твоей судеб. Значит, ты не хочешь даже подать мне надежду возобновить наши кампании и снова стать твоим братом?
— Не скоро, нет, — сказала она, — тебя чересчур мучило бы только что происшедшее между нами объяснение; но когда-нибудь, когда ты совсем простишь меня за то, что я тебя не люблю, когда ты сам полюбишь другую женщину.., но другая женщина не захочет расстаться с тобой, и ты видишь.., это заколдованный круг, ибо для того будущего счастья необходимо, чтобы ты порвал с настоящим и порвал бы без всякой задней мысли. Я поступила бы преступно, если бы сказала тебе противоположное.
Каждое из ее слов падало мне на сердце, как ком земли на гроб. Я был уничтожен, и во мне вдруг произошла сильнейшая реакция. Я поступил, как осужденный на смерть, разрывающий свои путы хотя бы для того, чтобы сделать перед смертью несколько шагов. Я высказал ей свою любовь с порывистостью отчаяния, и она опять горько заплакала, говоря, что я неумолим, что я терзаю ее. Ее горе было действительно велико, она задыхалась от него, и на минуту это ввело меня в заблуждение. Я убедил себя, что она меня любит и жертвует собой ради идеи жестокого долга. Да, я клянусь вам, что она имела такой вид, будто она меня любит, жалеет и боится моих ласк, так как она выдергивала свои руки из моих и если иногда, побежденная, и прятала свое лицо у меня на плече, она тотчас же отходила от меня, испуганная, как женщина, готовая ослабеть. Она не была ни вероломна, ни холодна, ни кокетка; я это знал, я был в этом уверен после такой долгой близости и стольких случаев видеть проявления ее великодушного характера во всевозможных испытаниях. Я безумствовал.
— Пожертвуй для меня своей клятвой, — сказал я ей, — забудь того человека, которому ты отдала себя; я для тебя пожертвую всем. Я оставлю отца умирать одиноким и в отчаянии. Любовь стоит выше всех человеческих законов, она все, она может все создать и все разрушить. Будь моей, и пусть вся вселенная рушится вокруг нас!
Она оттолкнула меня тихонько, но с печальным видом.
— Ты видишь, — сказала она, — вот до чего доходят, когда повинуются страсти: богохульствуют и лгут! Ты точно так же не покинул бы своего отца, как я не покинула бы моего друга. Быть может, мы и забыли бы их на один день, но на другой день мы расстались бы для того, чтобы вернуться к ним, а если бы мы этого не сделали, мы презирали бы один другого. Оставь меня, Лоранс, если бы я тебя послушалась, наша любовь убила бы нашу дружбу и наше взаимное уважение. Я клянусь тебе, что в тот день, когда я потеряю уважение к самой себе, я совершу сама над собой суд, я убью себя!

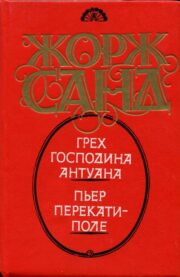
"Пьер Перекати-поле" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пьер Перекати-поле". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пьер Перекати-поле" друзьям в соцсетях.