Я ей не отвечал, то есть, я написал писем двадцать или, пожалуй, тридцать, но сжег их все. И при каждом сжигаемом письме я был рад и говорил себе:
— Не затевай борьбы, в которой ты будешь побежден. Если бы даже эта женщина полюбила тебя настолько, чтобы избавить тебя от страха перед неравным браком и отдаться тебе, придет минута, когда она опомнится; она сильнее тебя, потому что она спокойнее, потому что ее роль первенствует над твоею и подавляет ее. Ты будешь любить ее страстно, безумно, пройдешь через бури молодости и ошибки неопытности. Великодушная навсегда, с предвзятой мыслью, она станет подавлять тебя своей кротостью, забвением, а может быть и пренебрежением! Нет, сто раз нет; вырви ее из своего воображения и, если соблазн ее предложения проник в твое сердце, скорее раздави свое сердце, чем унизь его.
Я сдержал данное себе слово и не писал больше. Я отчаянно погрузился в занятия. Я воздерживался от всякого удовольствия, не позволял себе театра, меня не видали больше ни на скамьях, ни за кулисами «Одеона». Я приобрел не то что много знаний, но много понятий и осознал с удовольствием, смешанным с ужасом, что я выучиваюсь всему легко и что я — мастер на все руки; значит, пожалуй, что все руки у меня коротки. Так прошла зима. Я не думал больше об Империа и считал себя исцеленным от любви к ней. К весне я почувствовал беспорядок в моей утомленной голове, головокружения и отвращение к пище. Я не обратил на это внимания. Так как в апреле все это повторилось, то я совершил большую прогулку солнечным днем в окрестностях Парижа, думая освежить себе кровь ходьбой. Вернувшись домой, я слег: у меня обнаружилось воспаление мозга.
Я все спал и бредил и не знаю, что, собственно, со мной было. Раз утром я пришел в себя и ощутил огромную слабость. Я узнал свою комнату. Мне показалось, что я в ней один, и я заснул с сознанием, что хочу спать. Я был спасен.
Я грезил, и отчетливые образы заменили бесформенные и безымянные призраки, чудившиеся мне в хаосе бессмысленного бреда. Мне привиделась Империа. Она была в саду, полном цветов, и я звал ее на репетицию, происходившую в другом, соседнем саду. Я привстал и позвал ее слабым голосом. Я еще грезил наяву.
— Что тебе надо, милый друг? — отвечал мне ее кроткий настоящий голос.
И над моей головой наклонилась прелестная головка моей милой подруги.
Я снова закрыл глаза, думая, что это опять сон; но я их опять открыл, чувствуя на своем лбу, с которого она отирала пот, ее маленькую ручку. Это была она, в самом деле она, лихорадка моя прошла, я больше не бредил. Вот уже три дня, как она была подле меня. Она ухаживала за мной точно за своим братом. Белламар и Моранбуа, приехавшие в Париж вместе с нею для своих ежегодных ангажементов, сменяли ее по очереди. Тогда она отдыхала в соседней комнате, но не уходила от меня. Она рассказала мне все это, запрещая мне удивляться и допрашивать ее.
— Ты спасен, — сказала она. — Теперь тебе нужен отдых и тебе больше нечего делать, как лежать спокойно; мы тут и не оставим тебя до тех пор, пока ты не будешь на ногах. Не благодари нас, ухаживать за тобой наш долг, а теперь, когда нам больше нечего тревожиться, это даже удовольствие.
Она открыто в первый раз говорила мне «ты» или из чувства материнского участия, или потому, что она совсем переняла привычки странствующих актеров. Я покрывал ее руки поцелуями, плакал, как ребенок, обожал ее и больше ни о чем не думал.
Она помогла мне выпить немного ею самой приготовленного лимонада. На плечах у меня были поставлены банки, которые она осмотрела и перевязала, как могла бы это сделать сестра милосердия. Я совсем не уверен в том, что, пока я лежал без памяти, она не выполняла самых неприятных обязанностей сиделки. Эта чистая и сдержанная девушка не знала ни стыда, ни отвращения у постели больного. Она прислуживала мне, как, вероятно, некогда прислуживала своему отцу.
Это безграничное милосердие есть свойство актеров, которое отрицать невозможно. Империа сама принесла его с собой в эту среду, в которой она не родилась, и применяла со всею нежностью ее внимательной, рассудительной и тонкой натуры. Добрая Регина, снова поступившая в «Одеон», тоже пришла ухаживать за мной, но излишне шумела и усердствовала. Я чувствовал себя действительно лучше только тогда, когда Империа была подле меня. Анна сделала мне небольшой дружеский визит; но у нее был ревнивый любовник, который больше не пустил ее ко мне.
Раз вечером Моранбуа сказала Империа:
— Принцесса, — он всегда так называл ее полупочтительным, полунасмешливым тоном, — ты стала совсем бледная и желтая, чтобы не сказать — зеленая. Ты устала, я хочу, чтобы ты отправилась домой, легла и проспала бы настоящим образом ночь. Я беру на себя твоего больного и отвечаю за него. Убирайся! Моранбуа так сказал, Моранбуа так хочет!
Я присоединил свои настояния к его настояниям. Ей пришлось уступить, но пока она готовила лекарства и подробно объясняла их употребление Моранбуа, я плакал точно младенец, обещавший маме быть паинькой, но не могущий видеть без горя и страха, что она уходит. К счастью, я спрятал голову под простыню, и моих бедных ребяческих слез никто не увидел. Это было моим первым притворством. Скоро, по мере того, как мой рассудок восстанавливался, я стал хитрить. В моем присутствии часто говорили шепотом обо мне, и оцепенение выздоровления делало меня равнодушным ко всему, что говорилось. Мало-помалу, приходя снова в себя, я вздумал прислушиваться, думая подслушать, если удастся, что-нибудь определенное о настоящих чувствах Империа ко мне. И вот время от времени я напускал на себя мнимый глубокий сон, которого не мог прервать никакой шум, и старался не упустить ни слова, придавая в то же время своему лицу неподвижность полной глухоты; на этот раз я выказал себя отличным актером.
Единственный подслушанный мною интересный разговор был следующий разговор между Империа и Белламаром. Как вы сейчас увидите, он был решительным.
— Он всегда так хорошо спит?
— Всегда.
— А ты больше не утомляешься?
— Нисколько.
— Знаешь, он теперь еще красивее при этой бледности и с черной бородой.
— Да, он напоминает мне Гамлета Делакруа.
— Знаешь что, моя милая, меня крайне удивляет, что ты не влюбилась, конечно, с самыми чистыми побуждениями, в этого славного и красивого малого!
— Что делать! Я не люблю красавцев.
— Потому что они все глупы. Но этот умен.
— Конечно, с точки зрения нравственной, я его люблю, и от всего сердца.
— Нравственной! Какое двусмысленное слово в ваших устах, мадемуазель де Валькло!
— Не ищите тут никакой задней мысли, месье Белламар. Мне двадцать три года, и я хорошо вижу все то, что театр открывает передо мной. Значит, мне ни к чему прикидываться с вами ничего не знающей невинностью. Я знаю, что любовь есть лихорадка, вызываемая известными взглядами; я знаю, что некрасивые люди внушают настоящие страсти и что красивые люди могут их испытывать, когда они не влюблены исключительно в самих себя. Тем не менее я никогда не испытывала ни малейшего волнения ни от близости Лоранса, ни от близости Леона, который тоже очень красив и нимало не фат. Почему? Я не могу объяснить этого. Я склонна думать, что глаза мои не поддаются обаянию физической красоты.
— Это странно! Разве ваш любимец был некрасив?
— Должно быть, да!
— Постойте!.. Давно уж я не нахожу свободной минутки, чтобы серьезно поговорить с вами, моя дорогая питомица! Скажите, существует ли действительно этот любимец?
— Вы в него не верите?
— Никогда не верил.
— И вы были абсолютно правы, — отвечала Империа, подавляя какой-то легкий, странный смех.
— К чему вы выдумали этот роман?
— А для того, чтобы меня оставили в покое.
— Если так, то вы не доверяли также и мне, раз вы не поверили мне этой уловки?
— Я никогда не питала недоверия к вам, друг мой, никогда!
— И вы решились вовсе не любить?
— Решилась.
— Вы считаете это возможным?
— До сих пор это было возможно.
— А если Лоранс любил вас?
— Разве вы так думаете?
— Думаю. Может быть, он покинул нас из досады на ваше равнодушие!
— Я надеюсь, что вы ошибаетесь! Я очень к нему привязана, но я не чувствую к нему любви, мой друг, и это не моя вина.
— Я говорил вам, помнится, ничего не уточняя, что его любят в высшем обществе.
— Говорили. Но это не внушило мне желания нравиться ему. Я не кокетка.
— Вы совершенство, я это знаю, и я не принадлежу к тем людям, которые скажут вам, что женщина без любви просто чудовище. Я видывал на своем веку столько влюбленных чудовищ обоего пола и мечтал в своей молодости о такой массе глупейших вещей, которые казались мне чудесными…
— Что теперь вы уже ни во что не верите?
— Ни во что, кроме добродетели, потому что я встречал ее два или три раза в жизни, прогуливающейся, как спокойная богиня, по грязной мостовой ада и остающейся белой и блестящей, без малейших пятнышек грязи, посреди нечистот. Вы тоже одна из этих фантастических встреч, пред которыми я преклоняюсь до земли, мадемуазель де Валькло! Я нахожу, что это так прекрасно, что ни за что не подумаю анатомировать детали представляемого вами идеала! Я нахожу, что мужчины безумцы, когда требуют от женщин чистоты для того, чтобы любить их серьезно, и стремятся немедленно же уничтожить эту чистоту в свою пользу. Слабых они только презирают, к сильным чувствуют одну ярость. Чего же им нужно? Я же весь снисходительность и прощение к первым, весь почтение и обожание ко вторым. А засим, мое милое дитя, я бегу поскорее пообедать. А что прислать тебе на обед?
— Скажи трактирщику, чтобы прислал мне, что ему угодно.
— Он пришлет тебе телятины!
— Хорошо!
— Телятины! Это мерзость — телятина; это вовсе не питательно. Не лучше ли баранью котлетку, а?

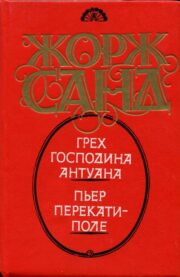
"Пьер Перекати-поле" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пьер Перекати-поле". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пьер Перекати-поле" друзьям в соцсетях.