— Ну-ка, принцесса ты этакая, — сказал позади меня хриплый голос, — поцелуй-ка и ты его, если только у тебя сердце побольше, чем у стрекозы.
При этой милой любезности Моранбуа Империа улыбнулась и протянула мне свою щеку, говоря:
— Если это награда, он может взять ее!
Я поцеловал ее с чересчур большим смущением для того, чтобы поцелуй этот доставил мне удовольствие; сердце мое сжималось, я задыхался. Моранбуа хлопнул меня по плечу, говоря мне на ухо:
— Рыцарь прекрасного пола, тебя ждут!
Каким образом он знал о моей дуэли, которую я тщательно скрывал? Не знаю, но предупреждение это заставило меня подпрыгнуть от радости. Уста мои только что вдохнули аромат моего идеала, я чувствовал себя гигантом, способным победить целый легион чертей.
— Друг, — сказал я Моранбуа, который последовал за мной в сени и помогал мне, вопреки всем своим привычкам, одеваться, — ты был учителем фехтования в полку, скажи мне, что нужно сделать, когда вовсе не умеешь драться, чтобы обезоружить своего противника?
— Всякий делает, что может, — отвечал он. — Есть у тебя хладнокровие, дурачина?
— Есть.
— Ну, так смелей, при себе вперед, кретин ты этакий, вот и убьешь его.
Это предсказание не произвело на меня никакого мрачного впечатления. Было ли во мне желание убить его? Конечно, нет, я очень человечен и не мстителен. Я бродил точно во сне и ничего не видел ясно перед собой. Я хотел победить и не считал себя достаточно умелым для того, чтобы выбирать средство для этой победы. Я знал, что противник у меня грозный, только я его не боялся — вот все, что я помню из этой быстрой драмы, в которую я бросался, как страстный человек. В ту минуту всякая философская щепетильность показалась бы мне только аргументом страха.
Секундантами я выбрал Леона и Марко, непременно желая, чтобы ясно было видно, что дело происходит между военными и артистами. Вашару принадлежало право выбора оружия, и мы дрались на шпагах. Я не знаю, что именно произошло. В продолжение двух или трех минут я видел что-то блестящее у себя в руках и почувствовал жгучий жар в груди, точно вся моя кровь спешила уйти из меня и стремилась навстречу тысяче острых шпаг. Я собирался отбить нападение, когда Вашар упал на траву. Мне показалось, что оружие мое проникло в пустое пространство, и я искал своего противника перед собой, тогда как он хрипел у моих ног.
Я воображал себя хладнокровным, но тут я заметил, что я точно совершенно пьян, а когда полковой доктор сказал: «Он умер!» — я вообразил, что дело идет обо мне, и удивился, что стою еще на ногах.
Наконец я понял, что убил человека; но я не почувствовал никакого угрызения совести, потому что у него было против меня девяносто девять шансов из ста, и я был ранен в руку. Я заметил это только тогда, когда мне сделали перевязку, и в ту же минуту я увидел мертвенно-бледное лицо Вашара, казавшегося совершенно мертвым. Холод объял все мое тело, но мысль моя не работала.
Он был долго болен, но выздоровел; он был недостоин драматического конца. Он потерял брата и женился на Сен-Клер, которая зовется теперь баронессою де Вашар, но не устраивает более гонок.
Что касается меня, то я очень удивился, когда, оставляя место дуэли, увидел около себя Моранбуа. Он последовал за мной и присутствовал при дуэли, не показываясь; он отвел меня домой, не говоря мне ни слова, и просидел всю ночь подле меня, опять-таки не говоря ни слова. Я сильно метался и много грезил, но грезил все о театре, а вовсе не о дуэли. Проснувшись, я увидал силача, дремавшего на стуле за занавесками. На мою благодарность он отвечал мне грубостью, но пожал мне руку, говоря, что доволен мною.
Рана моя была не серьезна, и, несмотря на запрещение доктора, посещения которого я не дождался, я побежал осведомиться о состоянии моей жертвы.
Он был в опасном положении, но к вечеру появилась надежда, а я мог отправиться на репетицию без всякого волнения и с неподвязанной рукой.
Я предполагал, что в театре еще никто ничего не знает, так как в городе история эта еще не разнеслась, но Моранбуа все рассказал моим товарищам, и Белламар встретил меня с распростертыми объятиями.
— Ты показал нам вчера вечером, что ты артист, — сказал он мне, — но нам совсем не было нужно, чтобы ты имел эту дуэль для того, чтобы знать, что ты мужчина. Но знаешь, не приучайся к этим развлечениям; теперь, когда в тебе оказался талант, мне было бы неприятно, если бы моему красавцу первому любовнику выкололи глаз или повредили руку или ногу. В твоем будущем ангажементе я укажу, что запрещаю тебе драться на дуэли по обязанностям службы.
Пока он шутил со мной таким образом игривым тоном, в глазах его стояли слезы. Я видел, что он любит меня, и нежно поцеловал его.
Империа тоже поцеловала меня, говоря:
— И к этому тоже не привыкайте.
А затем она сейчас же прибавила шепотом:
— Лоранс, вы добры и храбры, но знаете ли, что теперь все думают здесь… то, чего нет и чего не может быть. Будьте также и деликатны и дайте хорошенько всем понять, что не думаете обо мне.
— А не все ли вам равно? — отвечал я ей, оскорбленный этой ее заботой после того кризиса, из которого я только что вышел и от которого еще трепетала моя грудь. — Если и станут говорить, что я вас люблю, разве это для вас позор?
— Нет, конечно, — сказала она, — но…
— Но что? Разве вашему любимцу это не понравится?
— Если у меня и есть любимец, то он совсем мной не занимается, я уж говорила вам. Только я приняла одну вашу дружбу и не могу обещать большего. Разве все теперь между нами изменится? Неужели мне придется остерегаться, наблюдать за собою, обращаться с вами, как с молодым человеком, с которым обдумываешь каждое слово и даже каждый взгляд, лишь бы только не показаться кокеткой или сумасбродкой? Вы отлично знаете, что я хочу сохранить свою свободу, а для этого надо не допускать себя любить. Если вы мой друг, то вы не начнете той борьбы, что всегда меня пугала и отталкивала. Ведь не можете же вы хотеть испортить мне то счастье, которое я отвоевала с таким трудом после таких огорчений и несчастий, о каких вы и понятия не имеете?
Я был в ее власти. Я поклялся, что буду всегда ей братом и товарищем и что ей не придется охранять себя от моих преследований. Я и не подумал обвинить ее в холодности и в эгоизме, хотя бы это и могло быть очевидным, раз она не была влюблена в другого или побеждала в себе эту любовь для того, чтобы не подвергаться ее последствиям.
Леон был тоже доволен мною и задушевно выразил мне это. Регина покрыла меня ласками, Анна стала видеть во мне героя, Ламбеск еще более меня возненавидел, а маленький Марко привязался ко мне и стал предан мне телом и душой. Пурпурин, желая доказать мне свое уважение, стал называть меня господином де Лоранс. Моранбуа, продолжая обращаться со мной грубо, перестал ругать меня болваном. Самые мелкие служащие при театре вообразили, что на них падает частица моей славы; я сделался в один день львом нашей труппы.
Скоро в городе заговорили об этом событии. Полк не торопился признаваться в том, что один из его офицеров был основательно проучен простым актером. Вашара не любили и не ценили; но хотя в глубине души все были за меня, а не за него, товарищеский дух не позволял допускать мою правоту, и некоторые стали говорить, что будто бы с моей стороны это была мальчишеская выходка, за которой последовал неловкий удар шпаги. Штатские не хотели допустить такого умаления моей роли, и в кафе завязывались часто из-за меня довольно резкие споры. Военные любят актеров, без которых они умерли бы с тоски в гарнизоне, но они не любят, чтобы штатские хорошо владели шпагой, тогда как штатские всегда в восторге, когда штафирка[10] низшего класса, то есть гаер, не пасует перед военными бахвалами.
В самых высших сферах — в префектуре, у генерала, в городских гостиных все взволновалось, пошли вопросы, комментарии, люди чересчур comme il faut[11] были шокированы горячностью, с которой восхваляла меня слишком передовая молодежь; дело дошло до того, что Белламар, тонкий и осторожный, как сама опытность, собрал нас накануне объявленного уже спектакля и сказал нам со своей обычной игривостью:
— Детки мои, мы собрали с вами в этом славном городе лавры славы; но военная слава вредна артисту, и из полученных мною сведений явствует, что завтра вечером у нас может случиться скандал в партере. Быть может, мы послужим лишь предлогом для неведомых нам антипатий или ссор, но администрация или общественное мнение, пожалуй, взвалят ответственность за это на нас. Самое верное — это наклеить объявление на афише и заказать к сегодняшнему вечеру для нас вагон второго класса. Раз нас тут не будет, слава наша останется чиста от тех кулачных ударов, которые завтра, пожалуй, будут соперничать с гнилыми яблоками; ибо, если у артистов есть свои защитники, то и у воинов они тоже имеются. А потому бежим, и да помогут нам боги Олимпа Аполлон и Марс!
— Да здравствует Белламар, который всегда прав! — вскричал Марко. — Но да здравствует также и Лоранс, от которого никто из нас никогда не отречется!
— Крикнем все: «Да здравствует Лоранс!» — продолжал Белламар. — Он все-таки наша гордость!
— Вы рассчитывали здесь на хорошие сборы, — сказал я ему, — и мои лавры, пожалуй, стоят вам дороже, чем они того заслуживают.
— Сын мой, — отвечал он, — деньги всегда приходят к тому, кто умеет ждать их, а если их нет, то честь стоит дороже.
Перед отъездом я захотел еще раз узнать о здоровье Вашара и побежал к нему. Меня принял сам барон в столовой, где был подан завтрак и где, не узнавая меня — до того он был рассеян, — он предложил мне стул. Я поблагодарил его и собирался уйти, когда он узнал меня.
— Ах, отлично! — сказал он. — Это вы… фью… фью… чуть было не убили моего… фью… фью… Вы об этом сожалеете… отлично… фью… фью… Пренизкая ссора, очень прискорбная, очень прискорбная! Но что делать? Военный — фью… фью… обязан быть щепетильным, а вы отбили у него его… фью… фью… его любовницу…

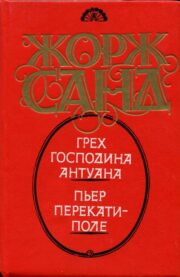
"Пьер Перекати-поле" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пьер Перекати-поле". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пьер Перекати-поле" друзьям в соцсетях.