— Что ты будешь без меня делать? — спрашивала я.
Она ревела в три ручья и обнимала мои ноги. Рыдала до икоты. Мне сразу становилось ее жаль. Я целовала ее кудрявую макушку и усаживала на колени.
— Не уйду, — обещала я и целовала ее маленькие ручки, отдирая их от моей груди.
— Нет? — спрашивала она, поднимая на меня глаза, полные слез.
— Ни за что! — улыбалась я и вытирала ее слезы губами.
— Нет? — спрашивала она сквозь слезы.
— Нет! — смеялась я.
Она смеялась со мной сквозь свои недетские слезы. Что будет с ней, если меня не станет? Мне даже страшно думать об этом. Страшно до обморока.
Мой муж уже был дома, разглядывал свою мошну, туго набитую железяками. Как под гипнозом. С лупой и замшей. Со специальными книгами и справочниками. С тряпичными патронташами и запахом затхлой, ушедшей в прошлое истории. Рядом с ним жила история его собственной жизни, ему не было до этого дела. Он на нее забил, хотя дочь любил по-своему. Играл, возился, водил гулять. Я тогда отдыхала или ходила вместе с ними.
Я выдрала из его рук лупу.
— Мне посоветовали хороший детский сад для Маришки. Обещали помочь с устройством. Ребенку важно быть среди таких, как он. Ему потом легче адаптироваться к школе.
— Давай, — согласился он.
— Что давай? — взбесилась я. — Спустись на землю! Для сада нужны деньги. Куча денег!
— Сколько?
— Твоя полугодовая зарплата, — с удовольствием сказала я. — Примерно.
— Где мы возьмем такие деньги? — потерянно спросил он.
— Где?! Продай свои железяки! Вот где!
— Но я не могу. Ты же знаешь. — Он поднял на меня глаза. Виноватый взгляд.
Если мужчина смотрит на вас виноватыми глазами, значит, он виновен. Если ничего не предпринимает и не раскаивается, значит, казнить без права помилования.
— Что знаю? — распаляясь, закричала я. — Металлические железяки жаль, живого ребенка нет? Мужчина должен драться, грызться, бороться ради семьи! Рисковать, добиваться, не жлобствовать! Вот для чего он придуман! А не для нелепых причуд!
Господи! Как надоело! Неужели не ясно? Рай в шалаше придуман безмозглыми, потусторонними людьми. Рая в шалаше не бывает, он возможен только для тех, кто его еще строит.
Я за спиной услышала рев. Басом. И обернулась. В дверях комнаты стояла Маришка. Она была напугана до смерти. Она смотрела на нас широко распахнутыми глазами, из которых текли слезы. Ручьем.
— Маришка! — Я присела на корточки и протянула руки. — Не пугайся. Мы просто поспорили. Иди к маме, детка. Я тебя обниму, зацелую все твои слезки.
Я тянула к ней руки. Она жалась к дверному косяку и рыдала. До икоты. Я пошла ей навстречу, она бросилась мимо меня к отцу и прижалась к его колену. Я стала пугалом для дочери? Или что? Я растерянно повернулась к ним. Он поднял ее на колени. Она всхлипывала, зарывшись лицом в его рубашку, и цеплялась маленькими ручками за него изо всех сил. Как за меня. Так было всегда. Я почувствовала дикий, болезненный до помутнения укол черной ревности. Мой муж отнимал у меня дочь. Легко, без напряжения. Ничего не делая, не ведая, не заботясь о ней. Я была с ней все время, учила, играла, читала книжки. Целовала малышачьи пятки и пальчики, круглую попу. Любила глаза-бесенята и курносый нос. Иногда ругала. Как без этого? Все наказывают детей за проказы. Но я ни разу пальцем не тронула, не оттолкнула моего любимого детеныша. А получалось по-другому. Мой муж днями работал, а вечерами оставался пушистым и белым. С ним — развлечения без поучений, со мной — Макаренко и Спок. Маленький ребенок выбирал то, что проще. Так легче, даже маленьким людям. Им тем более.
Моя голова разрывалась от боли, а сердце — от ревности к собственному мужу. Я делала что-то не так, но у меня не хватало ума понять что. Я хотела добра, меня не понимал мой ребенок. Он не был виноват. В этом возрасте дети мало что понимают. Но они чувствуют! Наверное, я не умела показать свою любовь, чтобы она стала очевидной, как круглая Земля. Я была уродом. Как так получилось? Все дело в блюдечке с голубой каемочкой? Но в жизни-то их не бывает. Они бывают только во взрослых сказках для их собственных детей.
Мой муж нашел деньги, продал машину. Теперь у нас было немного денег, подаренных старой машиной. А что дальше? Да ничего! Железяки остались течь в своей матерчатой пуповине. Как ни в чем не бывало. Я поняла, что надо искать работу. Мы так не протянем. Или даже средней по замыслу сказке конец.
Дочери не хотелось ходить в детский сад, она с трудом к нему привыкала. Я объясняла ей как взрослой, что так надо. Так лучше для нее.
— Почему я не могу быть с тобой? — спрашивала она. — Ты же дома.
— А другие дети? — отвечала я. — С ними интереснее играть. Ты научишься общаться, дружить, давать сдачи. Выучишь много новых игр, в которые не играют вдвоем. Тебе будет легче в школе.
— Не хочу я других детей!
Мою дочь тянуло домой, потому я забирала ее из сада сразу после обеда. Сначала она бежала ко мне навстречу, а потом стала привыкать. И я радовалась, что поступила правильно. Прошло немного месяцев, и моя четырехлетняя дочь сказала после моей очередной словесной трепки. Трепки, привычной и старой, — «я от тебя уйду»:
— В детский сад ходят ненужные дети. Сама уходи! Ты нам с папой мешаешь!
Мне показалось, что я умерла. На самом деле. Я ушла в спальню и легла на кровать. Я приучала свою дочь к мысли, что уйду от нее насовсем. И приучила. Я стала ей не нужна.
Самое смешное, я, как маленькая, ждала, что ко мне придет моя четырехлетняя дочь. Она так и не пришла, хотя дома мы были вдвоем. Она нашла дела по душе. Без меня. Научилась этому в детском саду. Я проиграла. Я учила не тому выживанию. Как папа. У нас это было семейное.
На меня часто находил стих. Бесшабашное, бездумное буйство.
— Мариванна! — кричала я. — Беситься!
Мы носились с дочкой как угорелые по огромной квартире мужа. По всем ее коридорам, коридорчикам и комнатам. Не разбирая дороги, крича во все горло. Как свободные, летающие лошади без упряжи и подков. Без возницы и воза. Без груза. Без шор. Без всего. Только скорость и ветер из всех открытых окон нашей квартиры. Жаркий ветер поднимал как на крыльях, выдувая все мысли. И хорошие и плохие. Любые.
Или играли в догонялки-пугалки. Раз! Выскочишь из-за угла с рожицей несусветной. И за ноги хвать! Визгу и смеху больше не бывает. И у меня, и у любимого детеныша.
Но самое главное было не это. Главное начиналось с подушек. Я наваливала их горой в гостиной, собирая из всех комнат. У самого окна. В месте, где больше всего солнца и ветра. И мы кружились с детенышем до изнеможения, пока стены не сливались в разноцветные полосы с растянутой вспышкой солнечного света, опоясывающей нас хулахупом. Под песню Боба Синглера. Особую песню. Самую особенную на всем земном шаре. Она осталась в наследство от сказочной страны. Тогда мы пели ее с мужем под радио. Кричали во все горло. Вместе. Она неслась впереди нас, закручивая крошечные торнадо из песка, пыли и жгучего степного солнца Мы тогда чувствовали себя атлантами, подпирающими сам небосвод. Тогда нам все было по плечу. Все!
— Круглая? — кричала я Маришке.
— Нет! — кричала она.
И мы кружились и кружились под песню могучих атлантов до головокружения, до сладкой устали.
— Все! — кричала Маришка.
— Круглая?
— Да!
Мы валились на подушки как подкошенные. Без сил. Хохоча во все горло. И мечтали о круглых желтых комнатах. Где всегда светит подсолнечник солнца тепло и ярко. Как добрая грелка. Мы заполняли круглую, теплую комнату связками и гроздьями сочных, полных солнца плодов. Доверху. До самого потолка. В нашей круглой комнате должно было вкусно житься. А как иначе?
По нашей круглой комнате в джунглях гривастых подсолнухов бродили желтые звери и летали желтые птицы. В круглой комнате нужна компания. Большая, огромная компания желтых, теплых как солнце друзей. Мы раскрашивали все цветы солнечным светом. Любые цветы. Пахучие, живые, прекрасные. Круглые комнаты должны вкусно пахнуть. И в них должна жить красота. Разве может быть иначе?
Мы лежали на подушках и мечтали о большом круглом доме. Нашем доме. «Счастливом», называла его Маришка. Он всегда был разный, только комната в нем была одна. Круглая, солнечная и счастливая.
Мы носились с дочкой по квартире сломя голову и услышали, как открылась дверь.
— Папа!
Маришка бросилась ему навстречу и упала в прихожей на обе коленки. Больно. Ее лицо сморщилось, собираясь заплакать. И она закусила губу, как всегда это делала. Маришка часто падала во время наших игр, и я тоже. «Солдат, сопли подтереть!» Я так всегда говорила и ей, и себе самой, если падала. Так научил меня мой отец. С детства. Сколько себя помню. И Маришка научилась крепиться, не плакать.
— Солдат! — весело скомандовала я. — Сопли подтереть!
Мой муж подхватил дочку на руки, и она зарыдала ему в плечо. Он, утешая, гладил ее по спине, по смешной покрытый кудряшками макушке. Она плакала ему в плечо. Горько, навзрыд. Я стояла опустив руки, не зная, что делать. Мой муж не смотрел на меня, он осудил меня враждебным молчанием.
— Что, собственно, случилось? — Я налетела на мужа, когда мы остались вдвоем. — Я научила Маришку терпеть боль. Не ныть, не разводить нюни! Меня саму так учил мой отец! Сопли подтирать!
— Моя дочь — маленькая девочка, а не солдат! — сквозь зубы процедил мой муж. — И мой дом — не казарма!
— Что ты хочешь сказать? — взбесилась я. — Я жестокая мать?!
— Ты дочь своего отца! И этим все сказано! — Он дал мне словами как кулаком. Под дых.
Мой муж ненавидел моего отца, отец — его. Это была глухая вражда без встреч и разговоров. Через меня. Как громоотвод.

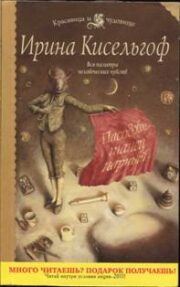
"Пасодобль — танец парный" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пасодобль — танец парный". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пасодобль — танец парный" друзьям в соцсетях.