Сенатор Стэнсфилд был явно не Рудольф Валентино. Он занимался любовью с той же осторожностью, мягкостью и изощренностью, которые всегда были характерны для его чрезвычайно успешной политической карьеры. Это была фронтальная атака, позиция с четко выраженной задачей; все более тонкие оттенки чувств были отброшены. Горячий влажный воздух выносил раздражающие звуки половой активности из открытого окна и неловко смешивал их с другими звуками наступающего во Флориде вечера – тихим шипением поливальных машинок на газонах, приглушенным грохотом прибоя – и были для Бобби, пожалуй, самым неприятным аспектом во всем этом удивительном деле. Никто не подготовил его к этому на школьном дворе, где «правда жизни» была так же доступна, как выпивка и сигареты.
Кто же, черт побери, эта девушка? Ответ подсказали длинные загорелые ножки. Белые туфли, рискованно оставленные на ногах, подкрепляли вывод. Это была Мэри Эллен. Без сомнения. Горничная матери. Боже! Бобби бросило в жар и холод, когда в его мозгу лихорадочно пронеслись мысли о последствиях. Во-первых, вопрос об интиме с наемной прислугой. Второй, и гораздо более удручающий вопрос – о ревности. В понимании Бобби Мэри Эллен обладала всеми достоинствами прекрасного ангела, и Бобби был не на шутку влюблен в нее. Она была веселой, яркой и жизнерадостной – то есть имела все те качества, которых столь явно не хватало его трем плосколицым сестрам, – и Бобби менее всего ожидал увидеть ее под собственным отцом на диване.
Бобби наблюдал за ними, как зачарованный. Ни любовник, ни любовница не посчитали нужным снять одежду. Ярко-зеленые поплиновые брюки отца свободно болтались на уровне колен, а рубашка цвета морской волны, от братьев Брукс, по-прежнему прикрывала верхнюю часть его могучего торса. Мэри Эллен также не тратила времени на раздевание, – через широко распахнутое окно Бобби видел белое хлопчатобумажное форменное платье, задранное до талии, и даже разглядел хлопчатобумажные карамельно-розовые полосатые трусики. Бобби вновь охватило отвращение, однако кровь Стэпсфилдов подсказала ему, что пристальное наблюдение за этой сценой может дать ему некие преимущества. Эмоции могу быть рассмотрены позднее. Сейчас же главное – уловить действие.
И тут, совсем неожиданно, на него, словно приливная волна, обрушилась эта мысль. Мать! Известно ли об этом матери? Как же, Господи, она поступит, если узнает об этом?
Но пока Бобби мучительно разбирался с мыслями о матери, возня на диване подошла к заключительной фазе. Мельтешащие конечности любовников закрутились, как в водовороте, последовало бешеное убыстрение темпа. Неожиданно ноги Мэри Эллен как бы потеряли координацию и пустились в диком ритме молотить воздух, трястись, дергаться и вибрировать от охвативших ее конвульсий. Наконец отец словно отключился – рухнул, обессиленный, точно марионетка, у которой внезапно перерезали веревочку.
Бобби – невольному наблюдателю, свидетелю отцовской неверности, обманувшемуся в той Мэри Эллен, которая жила в его мечтах, – показалось, что в это короткое мгновение детство его ушло навсегда.
Бобби угрюмо смотрел на стеклянную поверхность моря, расстилавшуюся за отутюженными газонами. Было лишь одиннадцать часов, но солнце уже диктовало свои условия красавице Палм-Бич, своей рабыне и любовнице. Легкий утренний бриз спал, и ленивым пеликанам, которые до этого легко парили в воздушных течениях, теперь приходилось бороться за свою добычу. Во влажной жаре только они проявляли признаки какой-то деятельности. Сам Бобби лежал на покрытом белым полотенцем шезлонге, и южное солнце покрывало его юношеское тело медово-коричневым загаром. Из транзисторного приемника рядом с ним доносилось пение Конни Фрэнсис.
Отношение Кэролайн Стэнсфилд к прямым солнечным лучам было прямо противоположным. Оберегая свою нежную, белую, словно лилия, кожу, она сидела под огромным парусиновым зонтом кремового цвета, недоступная для лучей, вызывающих морщины. Ее неприязнь к солнечному свету считалась в семье некой причудой, и остроты на этот счет были допустимы, Кэролайн обычно присоединялась к этим, в общем-то, традиционным шуткам на свой счет, и когда в семье осторожно посмеивались над нею, ее мелкие и четкие черты лица освещала одна из ее улыбок. Во многих отношениях эта склонность оставаться в тени символизировала ее роль в семье Стэнсфилдов. Считалось общепризнанным, что быть центром внимания – удел общительного, дружелюбного сенатора и, в меньшей степени, шумных детей. Однако это не роняло несомненного авторитета Кэролайн. Когда Кэролайн Стэнсфилд говорила, что случалось не часто, все слушали, и никто не мог объяснить точно, почему. Была ли тому причиной родословная, тянувшаяся из восемнадцатого века? Или то, что ей принадлежало довольно значительное количество акций Ай-би-эм? Или спокойная, неоспоримая уверенность ее аристократического голоса? Никто этого не знал. Однако было несомненно: это не имело никакого отношения к ее физической привлекательности. Возможно, когда-то внешность ее была «приятной» – таким эвфемизмом пользуются богатые и знатные для обозначения внешности, которую менее удачливые люди называют «простой», – однако годы взяли свое. Широкие, отлично приспособленные для деторождения бедра сработали нормально, однако шестеро детей – причем двое, как Макбет, были извлечены «до срока из утробы материнской», с помощью кесарева сечения – не способствовали улучшению фигуры. Следствием кормления грудью, как того требовала религия от матери – источника всего сущего, стал огромный и бесформенный бюст. Короче, в качестве объекта сексуального влечения Кэролайн Стэнсфилд оставляла желать много лучшего, и в результате сенатор Стэнсфилд перед каждым исполнением супружеского танца плодородия со своей несоблазнительной, но феноменально влиятельной женой всегда требовал стакан водки; нынче же он вовсе избегал ее спальни. Большинство людей и не догадывались, что сама Кэролайн предпочитала именно такой порядок вещей.
Всю эту знойную ночь Бобби терзали сомнения по поводу его дальнейших шагов; различные стороны его характера конфликтовали друг с другом. Отчасти он был убежден, что делать ничего не надо. Сердца болят только из-за того, что видят глаза и повторяют языки. Это знают все. Промолчав, он избавит мать от боли и сохранит у нее веру в отца. С другой стороны, быть может, его долг – сообщить обо всем матери. Возможно, если она узнает о внебрачной связи сенатора, то сможет пресечь ее в зародыше, до того, как замаячат такие чудовищные перспективы, как развод или разъезд. Однако в эмоциональном уравнении была еще одна составляющая, та, которая жила в крови мальчика и которую мог учитывать только Стэнсфилд. Впервые в жизни Бобби получил возможность воспользоваться тем, к чему был предрасположен генетически. Властью. Стэнсфилды упивались ею в течение столетия. Они боролись за нее, они молились на нее, ставили ради нее на карту все и никогда не пресыщались ею. Сенат, верховный суд, высокие правительственные учреждения осыпали своими служебными привилегиями поколения амбициозных, коварных Стэнсфилдов. От них ускользало только президентство, и, ворочаясь ночью в своих постелях, все члены семьи, достойные своего имени, беспрестанно мечтали об этой вершине власти.
Нельзя было отрицать того, что в руках Бобби теперь находится рычаг власти. Наконец-то у него появилось какое-то преимущество перед могущественным отцом. Однако и тут возникала дилемма. С одной стороны, он тринадцать лет был вынужден мириться со свирепой тиранией, бездумной жестокостью, проявляемой почти что походя, с презрением и унизительными наказаниями, которым подвергался в тех случаях, когда он, старший сын, не оправдывал безудержного честолюбия беспринципного сенатора. В этом плане месть казалась уместной и даже страстно желаемой. Но в то же время и несмотря на бесспорное преимущество положения, в котором оказался Бобби, он вовсе не испытывал от этого радости. Хорошо, пусть его отец – бесчувственный и въедливый надсмотрщик, но, тем не менее, он остается весьма внушительной фигурой, и Бобби страшно гордился им. Как это ни странно, происшедшее на самом деле ни на йоту не подорвало уважения к отцу. Как раз напротив. В конце концов, заниматься любовью с роскошной двадцатилетней девицей через две недели после своего шестидесятилетия – это тебе не козел начихал.
Теперь о Мэри Эллен. О Мэри Эллен, которая могла зажечь Бобби, как свет включить, грациозно, словно манекенщица, двигаясь по комнате. Забавная, добрая Мэри Эллен, которая заставляла Бобби смеяться и смеялась над жизнью сама. Неожиданно ее положение в доме стало не столь уж надежным. Отчасти Бобби это было небезразлично. Он с трудом заставил себя выкинуть эту мысль из головы. Стэнсфилды были запрограммированы на то, чтобы управлять своими чувствами. Им следовало ценить такое качество, как твердость. Их сердцам было позволено страдать за Америку, за бедных, за слабых, за голодных, однако друг, оказавшийся в беде, попадал в конец этого списка приоритетов. Плохо, что людям бывает больно. Людям всегда бывает больно. И ему бывало больно. Главное то, что в его руках – власть, а его учили, что властью надо пользоваться. Главный вопрос заключался лишь в том, как ею пользоваться.
И поскольку жесткий человек в Бобби Стэнсфилде боролся с мягким человеком, мальчик беспокойно завозился в своем чрезвычайно удобном шезлонге, ощутив впившиеся в бока шипы дилеммы. И тут, совсем неожиданно, пришло решение. Оно пришло само собой. Такова жизнь. Полчаса размышляешь, когда вставать из постели, а затем с удивлением обнаруживаешь, что ты уже сбросил одеяло. Бобби щелкнул выключателем транзисторного приемника, и Конни Фрэнсис, умолявшая своего любимого быть более чутким, смолкла на полуслове.
– Мама, я хотел тебе кое-что сказать.
Кэролайн Стэнсфилд подняла бесстрастное, невозмутимое лицо. Разговоры, которые начинаются с такой фразы, обычно содержат малоприятные новости. Вмятина на машине, пробоина на лодке, уязвленная гордость? Мало чем можно было расстроить Кэролайн, нельзя уладить лишь немногие вещи. Таково было одно из преимуществ принадлежности к клану Стэнсфилдов. Возможно, наиболее важное.

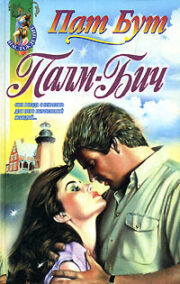
"Палм-бич" отзывы
Отзывы читателей о книге "Палм-бич". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Палм-бич" друзьям в соцсетях.