Внезапно остановившись, он тихо лежал на мне, задыхаясь от изнеможения, а я чувствовала, как по моим ногам теплой струйкой течет кровь. Я лежала под ним сломленная, раздавленная, словно какое-то насекомое, приколотое булавкой к доске. Я вновь застонала, пытаясь столкнуть его с себя. Он испустил долгий прерывистый вздох и вытер губы о мой лоб.
– Какая решительная маленькая девственница! – прошептал он. – Сожалею, что это вышло так непросто, но отныне все будет по-другому.
Руки его вновь принялись ласкать меня, тело начало ритмично двигаться, и меня опять пронзила боль.
– Не надо, пожалуйста, не надо! – закричала я. Теперь я уже ногтями раздирала ему тело, пытаясь добраться до глаз. Я была готова на что угодно, лишь бы остановить его. Однако он быстрым движением сгреб мои руки и заломил их мне за голову.
– Прекрати! – жестко сказал он. – Прекрати или, клянусь, я свяжу тебя!
Я перестала шевелиться и только плакала навзрыд, а он продолжал объезжать меня. Продолжалась и боль. Казалось, этому не будет конца. К счастью, я, видимо, время от времени теряла сознание, но каждый раз, когда оно возвращалось, он все еще сидел на мне верхом, его руки терзали и мяли мое тело, его огромный орган входил и выходил из меня. Он был ненасытен – пыхтящий зверь, заманивший в ловушку свою жертву и куражащийся над ней.
Наконец, когда свет из окон стал разгонять серые предрассветные тени, он все-таки слез с меня и, улегшись на свою половину постели, немедленно уснул. Сначала, совершенно измученная, я лежала под грузом невероятной усталости, а затем еще один благодатный обморок принял меня в свои объятия.
Не знаю, сколько мы спали – на несколько дней я совершенно потеряла счет времени. Я только смутно помню, как Крэн осторожно встал с постели и вышел в свою комнату. Вскоре он вернулся, но я прикинулась спящей. Наклонившись надо мной, он поцеловал меня – одним из нежных поцелуев, адресованных «покорным слугой» своей «богине».
– Элизабет, – осторожно потряс он меня за плечо, – дорогая, просыпайся. Ну, давай же, давай!
Открыв глаза, я отшатнулась от него и зарылась лицом в подушки.
– Бедная роза! – пробормотал он. – Неужели это так больно?
В ответ я молча мотнула головой.
– Что ж, думаю, я могу облегчить твои страдания, – сказал он и вышел из комнаты, за дверями которой тут же послышалось какое-то бормотание.
Вскоре он вернулся, неся тазик с теплой водой, тонкое льняное полотенце и хорошее белое мыло. Полковник откинул простыню, и лицо его исказила гримаса. Опустив глаза, я увидела, что вся постель перепачкана кровью.
– Если бы ты жила на Востоке, – мягко заметил он, – сейчас бы тебя чествовало все твое племя. Там такие доказательства девственности ценятся очень высоко.
Испытывая тошноту от стыда и унижения, я не могла даже говорить и, не вставая с постели, молча смотрела на него. Если бы в этот момент я увидела выросшие у него за ночь рога, хвост и раздвоенные копыта, то вовсе не удивилась бы, но он выглядел так, как в тот день, когда впервые поцеловал мне руку. К еще большему моему изумлению, дикий, безумный зверь, терзавший меня всю ночь, теперь принялся осторожно и нежно мыть мое тело. Он делал это так, как делает мать со своим ребенком, а прикосновения его были мягкими, словно легкий ветерок.
Закончив, Крэн взял одно из моих домашних платьев и протянул мне его с ласковыми словами:
– Надень вот это. Я пока провожу тебя в другую комнату, а потом пришлю к тебе служанку. Ты должна встать и немного походить, иначе у тебя будет болеть еще больше.
Я повиновалась, но, когда он стал помогать мне подняться, у меня вырвался невольный стон. Крэн подхватил меня на руки, отнес в соседнюю комнату и, уложив на свою постель, поцеловал.
– Не надо испытывать ко мне ненависть, Элизабет, – прошептал он. – Я очень люблю тебя. Любовь – это не только боль. Боль скоро пройдет, моя родная, и тогда я покажу тебе, что такое настоящая любовь.
Должно быть, я снова заснула, потому что, когда вновь открыла глаза, послеполуденное солнце уже клонилось к закату, а моя служанка суетилась в комнате, раскладывая вещи. Ее звали миссис Мур. Это была женщина средних лет, которую Белль, учитывая мою собственную неопытность, наняла, чтобы та одновременно выполняла обязанности моей личной служанки и домоправительницы. Работала она хорошо, но была ужасно болтливой. Увидев, что я проснулась, она засуетилась еще больше.
– Как вы себя чувствуете, моя несчастная овечка? Я сразу же поняла, что за ночка выпала на вашу долю, когда увидела постель. Я чуть с ума не сошла. Какие же грубияны эти мужчины – все до одного!
И так она продолжала тараторить – все об одном и том же. Это были именно те слова, которые мне хотелось слышать в эту минуту, и крупные слезы начали скапливаться в моих глазах. Я горько заплакала от жалости к самой себе.
– Ну, будет, будет, милая, не изводите себя так. – Служанка доверительно приблизила ко мне свое круглое луноподобное лицо, покрытое плотной сеткой фиолетовых прожилок. – Когда его не будет, – многозначительно склонила она голову, – я дам вам глоточек кое-чего, и вам вмиг полегчает. А теперь давайте подниматься. Он скоро вернется – хочет забрать вас из дома.
– Из дома?! – с ужасом переспросила я. – Да я с места двинуться не могу!
– Нет-нет, как только вы подниметесь, вам сразу станет лучше, – жизнерадостно возразила женщина. – Да вам и не придется много ходить: он всего лишь хочет съездить с вами в театр.
Театр! Жалость, которую я испытывала к своей особе, моментально уступила место проснувшемуся интересу. Никогда в жизни мне еще не приходилось бывать в театре, поскольку в течение года, когда шло наше с Люсиндой обучение, Белль держала нас в полной изоляции. Однако после тех рассказов, скорее даже сказок, которые мне приходилось слышать о театре, я страстно мечтала попасть в эту волшебную страну. Сейчас это было единственным, что могло вытащить меня как из дома, так и из бездны страданий по поводу собственной участи. Возможно, Крэн – большой знаток женской психологии – именно на это и рассчитывал, но, как бы то ни было, когда в сопровождении еще трех офицеров он ворвался в комнату, я была уже полностью одета и сгорала от нетерпения.
Если бы он предложил мне ужин на двоих, это, видимо, было бы печальным зрелищем, но я не могла противостоять зажигательному веселью сразу четырех гренадеров, уже знакомых мне по предыдущим балам. И хотя сама я пока что была не в силах поддерживать оживленную беседу, к своему собственному удивлению, я обнаружила, что во все горло смеюсь над уморительной пикировкой, которую они затеяли за столом.
Как сейчас помню: мы отправились в театр Ковент-Гарден и я увидела Изабеллу Мэттокс в обновленной постановке шеридановской «Школы злословия».[7] Я была потрясена, почти загипнотизирована чарами впервые открывшегося мне мира – театра, публики, актерской игры. С тех пор я стала страстной поклонницей этого искусства, и, хотя вот уже несколько лет, как моя нога не переступала порога театра, я до сих пор с наслаждением вспоминаю все пьесы, которые мне довелось посмотреть, а также блиставших в них актеров.
Я была настолько очарована увиденным, что только тогда, когда мы уже тряслись в карете на пути домой, до меня дошло, что наступила новая ночь и я обречена разделить ее с мужчиной, который сейчас обнимал меня за талию, сонно покачивая поникшей головой.
Не могу вспоминать эту ночь. Как только мы очутились дома, я попыталась убежать от него, хотя только Господь знает, куда мне было бежать. Конечно же, Крэн поймал меня и с холодной яростью – всю эту сцену видели и кучер, и денщик, и служанка – отвел меня наверх. Уже в моей комнате он немного смягчил свой гнев и попытался успокоить и урезонить меня, но от страха я совсем потеряла голову и, не слушая его, лишь всячески пыталась увернуться.
Наконец Крэн вышел из себя и, почти срывая с меня платье, закричал:
– Видит Бог, Элизабет, если ты не хочешь меня любить, то по крайней мере я заставлю тебя повиноваться!
И, швырнув меня на постель, он вышел в свою комнату. Вскоре Крэн вернулся, лицо его было мрачным. Когда он лег в постель, я резко отпрянула от него, чувствуя ненависть даже к запаху, исходившему от этого человека. Однако он грубо притянул меня к себе и вновь предался своим наслаждениям. На сей раз не было ни произносимых шепотом нежностей, ни мягких ласканий – одно только примитивное утоление низменного инстинкта. Каждый раз, когда он с силой входил в меня, я испытывала все ту же жестокую боль, и поэтому снова рыдала и отталкивала его. Но это, кажется, только еще больше распаляло Крэна, а я так и оставалась под ним – беспомощная и измученная. Когда ночь была на исходе, мне показалось, что боль пошла на убыль, а к тому времени, когда наконец, насытившись, он встал с меня, она уже превратилась не более чем в сильный зуд. Поднявшись с постели, Крэн прошел в свою комнату и захлопнул разделявшую нас дверь. Тогда я перекатилась на середину кровати, зарылась лицом в подушки и вновь дала волю слезам. Теперь, правда, меня беспокоила не столько боль, сколько вертевшиеся в голове мысли.
Неужели именно на это меня сознательно обрекли моя семья, Белль и Джереми? Неужели мне суждено превратиться в инструмент наслаждения для любого мужчины, готового заплатить? Мысли бесконечным хороводом вертелись в моем мозгу. Мои покровители с легкостью говорили о шести месяцах, о годе или даже больше, в течение которых может продолжаться эта связь. Сейчас мне было всего лишь семнадцать, но уже теперь я с ужасом думала о бесконечной череде мужских тел с пустыми пятнами вместо лиц, которые станут передавать меня из рук в руки, трогая, терзая, лапая… И чем дальше меня передают, тем сильнее высыхает и увядает мое собственное тело, тем грубее, жестче и грязнее становятся руки мужчин. И так до тех пор, пока однажды я снова не окажусь на Рыбной улице в вонючей сточной канаве, издавая беспрерывные хриплые вопли, в то время как на меня будут наваливаться обезумевшие орды.

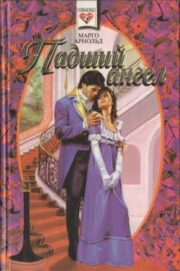
"Падший ангел" отзывы
Отзывы читателей о книге "Падший ангел". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Падший ангел" друзьям в соцсетях.