– Ах, Эмбер, Эмбер, ведь ты знаешь Брюса! Ты знаешь, какой это благородный и справедливый человек! – Она тоже поняла, что я знаю о том, что пойманных рабов должны казнить. – Но он ничего не может сделать! Таков здешний обычай. Пойманных беглых рабов вешают. Если Брюс позволит себе нарушить это правило, он навлечет на нашу семью гнев всей округи. Пойми, мы живем здесь, мы не можем пренебрегать здешними обычаями!..
Я встала, обошла стол и порывисто обняла Коринну.
– Но кто вас принуждает здесь жить, Коринна? Если уж вы не хотите жить в Европе, почему бы вам не перебраться в город?
– Нет, – Коринна смутилась, – мы уже привыкли жить здесь. Здесь простор, детям есть, где гулять, это полезно для их здоровья. Мы вложили в устройство нашей усадьбы столько сил, что мы просто не можем ее покинуть! – Она заплакала.
Я нежно целовала ее мокрые от слез щеки, гладила по волосам.
Я твердо решила, что когда за ужином или утром за завтраком увижу Карлтона, то не стану даже заговаривать с ним о случившемся. Если он ничего не может изменить, если он сам – раб сложившихся обстоятельств, то стоит ли его мучить напрасно…
За ужином снова не было ни Санчо, ни Брюса.
– Брюс тоже решил поужинать в своей комнате, – сказала мне Коринна.
В этот день я не виделась со своим сыном. Я просто не знала, как держаться с ним. Осуждать происходящее? Но было ли бы это честно по отношению к Коринне и Карлтону? Делать вид, будто ничего особенного не происходит? Нет, я бы не смогла так притворяться. Да и зачем…
После ужина Коринна снова ушла к детям, посмотреть, как их будут укладывать спать. Она должна была побеседовать и с моим сыном. Мне было немного неловко. Я как будто перекладывала на ее хрупкие плечи все заботы о моем сыне. Но ведь этого хотел Брюс. Во всяком случае, я лишена возможности воспитывать сына, как бы мне хотелось. Но, может быть, встречи с Санчо и беседы с ним помогут моему мальчику вырасти человеком незаурядным…
Я снова задумалась. Так ли уж хорошо быть незаурядным, необыкновенным человеком? Можно ли считать дона Санчо счастливым? Но все же я бы не хотела, чтобы мой сын вырос заурядным ничтожеством…
Я поднялась к себе, позвала Сесилью, чтобы она раздела меня и причесала на ночь.
– Сесилья, – вдруг обратилась я к служанке, – ты знаешь, ведь я собиралась купить плантацию…
– О! – воскликнула служанка, – купите, ваша светлость, купите непременно!
– Нет, Сесилья, после того, что произошло, я никогда не решусь на такое рискованное предприятие.
– А что же такого произошло?! – с жаром возразила негритянка. – Что же такого произошло?! – повторила она почти гневно. – Несколько строптивых рабов осмелились сбежать от добрых хозяев и понесли за это справедливое и заслуженное наказание… Ну так что?
– Ах, Сесилья, Сесилья, – я грустно покачала головой.
Я уже поняла, что все разновидности человеческого рабства и несправедливости остаются столь постоянными во многом потому, что сами жертвы и рабы испытывают некое странное и, видимо, в высшей степени свойственное человеку наслаждение от своего мучительного и зависимого положения, готовы всячески оберегать и охранять это положение, и возмущаются, когда им подобные пытаются протестовать. Кажется, это особенно свойственно женщинам и рабам.
– Купите, купите плантацию, – продолжала уговаривать меня Сесилья.
– Но почему, почему ты этого так хочешь? Я не понимаю тебя, Сесилья!
– Что же тут непонятного, ваша светлость! Ведь если вы купите плантацию, вы тем самым осчастливите рабов. Вы добрая, им будет у вас хорошо.
Я невольно засмеялась.
– Сесилья, я вовсе не думаю, что те, которые обращаются с рабами дурно, жестокие люди. Жестоко и дурно само по себе рабовладение; и не так уж много людей в состоянии противиться этой жестокости и хорошо обращаться с рабами.
– Вы очень мудрено говорите, ваша светлость. Мне вас не понять. Как это «само по себе»? Разве человек над своими поступками не властен?
– Да, человек может управлять собой, но обстоятельства часто воздействуют на него сильнее, чем он сам полагает.
Сесилья задумчиво покачала головой.
– Ну вот, я тебя озадачила. Можешь теперь думать обо всем этом. А плантацию я все равно покупать не стану. Ну, ступай.
Когда Сесилья ушла, я сама задумалась над тем, почему все же твердо решила не приобретать плантацию. Да, конечно, мне не хотелось владеть рабами. Но, в сущности, у меня ведь не было желания бороться активно с такой несправедливостью, как рабство. Мне всего лишь хотелось, эгоистически охраняя свой покой и свою свободу, устраниться от несправедливости, как это сделал Санчо. Я не желала никакой ответственности; я просто хотела жить, как мне хочется. Благо, у меня были на это средства. И ведь, в сущности, за это свое свободное существование я заплатила в своей жизни многими днями несвободы и подчинения. Вспомнить хотя бы мой брак с Рэтклифом…
Но тут я почувствовала, что эти размышления о свободе, несвободе и ответственности могут привести меня к тому, что я попросту стану себя презирать.
Глава пятьдесят первая
Жизнь потекла, казалось бы, по-прежнему. Я исполнила данное себе обещание и ни словом не обмолвилась с Брюсом о казни рабов.
Приближалось время отъезда. Я сказала Коринне, что отплыву на том же корабле, что и Санчо.
– После того как меня захватил в плен этот негодяй капитан Мердок, мне страшно плыть на корабле одной, без мужской защиты, – призналась я Коринне.
Она одобрила мое решение.
Корабль отплывал утром. Уже были готовы экипажи для того, чтобы отвезти нас наутро на пристань.
Вечером я простилась с сыном. Мальчик был огорчен моим отъездом, а также и отъездом дона Санчо, к которому был очень привязан. Я утешала маленького Брюса и говорила ему, что мы будем часто видеться, и что в конце концов я добьюсь его переезда в город.
Ночью мне не спалось. Санчо ушел из моей спальни пораньше, надо было выспаться, ведь утром нам предстояло подняться еще до рассвета.
Я ворочалась с боку на бок, лежала с закрытыми глазами. Но уснуть никак не могла. Я начала бранить себя, ведь завтра утром я буду, как сонная муха. Но вскоре я поняла, что не смогу уснуть, зажгла свечу и взяла трактат Помпонацци. Но размерность философических рассуждений не успокаивала меня.
Я встала, убрала волосы в сетку, накинула халат и шаль. Было жарко. Я не надела чулок, а лишь сунула ноги в легкие комнатные туфельки без задников.
Я прошлась по террасе, опоясавшей дом, затем надумала пойти к Санчо. Я тихонько постучалась в его дверь. Никто не отозвался. Я постучалась снова. И снова ответом мне было молчание. Я пожала плечами. Разумеется, я стучалась очень тихо, чтобы не поднимать излишнего шума. А дон Санчо, должно быть, крепко уснул.
Что же делать? Вернуться к себе? Но мне не хотелось опять лежать без сна, а я предчувствовала, что если вернусь, то именно это и произойдет.
Поразмыслив, я решила сойти в сад.
Сад в усадьбе Карлтонов был огромен. Они распланировали его очень интересно. Одна часть представляла собой экзотический уголок, здесь росли местные породы деревьев, разнообразные цветы, гибкие лианы обвивались вокруг стройных пальмовых стволов. Другую часть сада Карлтоны устроили в виде английского парка. Я даже удивилась, как хорошо прижились в местном климате высокие густолиственные дубы, привезенные из Англии. Помнится, однажды утром я услышала здесь пение малиновки. Здесь же находился и пруд, осененный ветвями плакучих ив. Можно было подумать, будто прогуливаешься в каком-нибудь поместье в Эссексе. Самой интересной мне казалась третья часть сада. Молодость Карлтон провел во Франции при дворе «Короля-солнце» Людовика XIV. Помнится, он рассказывал мне о дворцах Версаля, резиденции королевского двора. В то время там блистал своим искусством замечательный садовник Андрэ Ленотр. Для того чтобы создать третью часть сада, лорд Карлтон пригласил одного из учеников Ленотра, оплатил ему дорогу в Америку и возвращение во Францию и заплатил огромные деньги за его работу.
Я любила эту третью часть сада. Она была точной копией парков Версаля. Изящные мраморные фонтаны, огромные газоны с ярко-зеленой, ровно подстриженной травой. Кроны деревьев и кустарники, заросли которых обрамляли газоны и клумбы, также были аккуратно подстрижены. Дорожки вымощены мрамором. На обширном зеленом пространстве были живописно разбросаны белые мраморные статуи.
Этот странный здесь, в Америке, уголок, наводил меня на мысли о путешествии в Европу. Ведь я еще не бывала в блистательной Франции, наряды и вкусы которой служили образцом для всего мира.
Я медленно прогуливалась по газону. Я была совершенно одна. Сбросила туфли, шаль и закружилась в странном танце. Затем мне пришла в голову довольно смелая фантазия. Я разделась совсем. Одежду и туфли я положила у подножья мраморной статуи, изображавшей обнаженную Венеру с яблоком в руке. Я легко ступала, обнаженная, по мягкой траве. Я то шла очень медленно, то ускоряла шаг, то бежала. Мои длинные пышные золотые волосы то следовали за мной, словно вуаль; то окутывали меня легким покрывалом. Легкий теплый ветерок обвевал нагое тело. Я подумала о том, сколько дурного в одежде с ее стягиванием, сковыванием, искажением естественного человеческого тела. Привстав на носки я закружилась.
А ведь нет лучшего одеяния, могущего украсить женщину, нежели густые волосы и нежность кожи.
Я наслаждалась своей наготой. Я заметила, что если ум и знания заставляли меня с грустью смотреть на жизнь; то мое тело требовало от меня бурного участия в этой жизни. Возможно ли равновесие тела и ума?
Изящный, тонкий, словно девичья бровка, лунный серп серебряно белел в темно-голубом небе. Я, казалось, находилась в сказочной волшебной стране. Да, я бы не удивилась, увидев внезапно фею или хоровод эльфов.

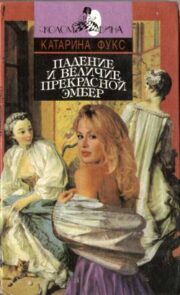
"Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 1" друзьям в соцсетях.