Катарина Фукс
Падение и величие прекрасной Эмбер
Книга первая
Пролог
Все началось с той самой вечеринки в доме профессора. Разумеется, я нисколько не сомневалась в том, что ничего недостойного не произойдет. Ведь профессор приходился отцом Инге, от которой исходило приглашение. Что могло произойти в присутствии этого исключительно порядочного человека? Увы, ничего и еще раз ничего.
Однако время было смутное, военное,[1] и ветер приключений кружил наши буйные студенческие головы своими буйными порывами. Селедочный паштет казался изумительным лакомством, юбки укорачивались, серьги удлинялись, стихи наполнялись самыми мрачными пророчествами. И мы, молодые люди, вздумавшие в столь неподходящий момент вкусить плодов немецкой философии, приспосабливались ко времени, кто как мог; одни ежились и поднимали воротники; другие, распахнув куртки, подставляли грудь буре. Мне было девятнадцать; я родилась и выросла здесь, в этом, в сущности, небольшом германском городе, прославленном своим университетом. Скромный почтовый чиновник, отец; мать, сама ходившая на рынок за провизией на неделю; строжайшая экономия дома и тоскливая дисциплина в пансионе, затем в девической гимназии; и книги, книги, книги. Книги попросту давали мне возможность пожить совершенно иной жизнью. Впрочем, кому только они не дают этой прекрасной возможности! Завершилось все бунтом, выразившемся в отчаянном желании изучать философию в университете. Хотя, надо сказать, моих родителей и до сих пор нисколько не трогает то обстоятельство, что наш город прославлен во всем мире своим университетом, и именно кафедрой философии.[2] Итак, я стала студенткой, и родители смирились с тем, что перспектива моего благополучного замужества отодвинулась на неопределенное время. Мать бранила меня, называя старой девой, а отец подозревал наши скромные студенческие вечеринки во всех смертных грехах. Вот и в тот день мне пришлось несколько раз заверить родителей в том, что я отправляюсь вечером всего лишь в дом профессора. Отец и мать. Да, с тех пор, то что называется, утекло немало воды, их уже нет среди живых; я вспоминаю о них с грустью и жалею о том, что, быть может, отличалась в молодости чрезмерной резкостью.
Но не хочу прерываться. Вечером я отправилась в добротную профессорскую обитель, которой предстояло стать временным приютом студенческих забав. В кармане жакета, обшитого блестящей мишурной тесьмой, у меня лежали новомодные длинные серьги, которые не вдевались в уши, а прикреплялись к мочкам ушей специальными зажимами. Я поспешно прикрепила их, едва ступив на лестницу профессорского дома.
В большой гостиной уже шумели, переговаривались, наслаждались бутербродами, спорили. Надо сказать, что по характеру я была и осталась замкнутой и меланхоличной. Подруг у меня не было, молодые люди явно не считали меня привлекательной особой. Но я убеждала себя в том, что мне довольно и той высокой оценки, которую открыто давали моим способностям мыслить, рассуждать, анализировать. Конечно, не обходилось и без классического: «У Катарины мужской ум.» И, бессознательно желая противоречить этому банальному утверждению, я буквально заставила себя влюбиться. Нетрудно догадаться, что это была неразделенная любовь. Мне тогда нужна была только неразделенная любовь, что бы я делала с какой-либо иной разновидностью любви? На самом деле я тогда желала лишь одного: чувствовать себя полноценной влюбленной девицей, и в то же самое время чувствовать себя совершенно свободной и свободно предаваться самому большому наслаждению в моей тогдашней жизни: буйным размышлениям над книгами Канта, Фихте и Шеллинга. Помнится, я достаточно долго колебалась – кого же избрать своим недоступным принцем. Это должен был быть один из трех самых заметных на нашем факультете молодых кавалеров. Генрих отличался выраженным честолюбием, явным романтическим стилем поведения, и к тому же старался одеваться щегольски, и у него были (до сих пор помню!) прекрасные волосы. Франк разыгрывал «падшего гения», распространял слухи, будто балуется кокаином и проводит ночи в самых забубенных кабаках; однако свою порочность он сильно преувеличивал, такое часто случается с юношами его возраста. Томас, напротив, был спокойным, методичным, работоспособным аналитиком; всему находил объяснения и ничему не удивлялся. Как ни странно, я в конце концов остановилась на нем. Я придумала какого-то совсем иного Томаса, скрывающего трогательную беззащитность под личиной внешнего спокойствия. О моей столь своеобразной влюбленности Томас не подозревал. Мне вовсе не хотелось демонстрировать открыто свою страсть и, таким образом, сделаться в итоге открыто отвергнутой и смешной.
В профессорской гостиной я осторожно огляделась, увидела Томаса; внушила себе, что испытываю восторг от одного его вида; затем вооружилась бутербродом с сыром (сногсшибательно!) и заговорила с Ингой.
Между тем, вечеринка двигалась своим путем, присутствие нашего либерального профессора и его супруги ограничивало вероятность опасных поворотов. Закрутился диск пластинки, граммофон выдал нечто такое, что повергло бы в ужас нашего профессора, не будь он либералом, терпимо относящимся к увлечениям молодежи. Начались танцы.
Мне было девятнадцать лет, и я танцевала всего два раза в жизни: с отцом, когда семья решила отпраздновать мое шестнадцатилетие, и с двоюродным братом, тогда же. Не помню, чтобы это доставило мне особенное удовольствие; я двигалась под возгласы матери: «Кати, не сутулься! В такт, Кати, в такт!» С тех пор я не имела ни малейшего желания повторить подобное развлечение.
Я положила на тарелку картофельного салата и, не спеша, расправлялась с ним под музыку, когда внезапно до меня дошло, что я уже довольно давно являюсь объектом чьего-то пристального внимания. Я поняла, что это мужское внимание. Я растерялась. Мне сделалось как-то неловко. Я почти машинально поставила на стол тарелку, отложила вилку, отерла губы носовым платком, одернула жакет и подумала о своей скромной прическе (пышные темные волосы я зачесывала наверх и высоко закалывала). Таинственный «он» продолжал наблюдать за мной. Я начала нервничать и подумывать об уходе, даже сделала несколько шагов по направлению к двери. «Он» заметил и тоже начал действовать. Прямо передо мной внезапно очутился довольно высокий молодой человек. «Он» дружелюбно улыбался, и даже я при всей своей неопытности поняла, что «он» изо всех сил старается преодолеть природную застенчивость. Я растерялась еще больше. Кто он? Какое ему до меня дело? Мне захотелось резко крикнуть, чтобы он оставил меня в покое. Это внезапное, впервые в моей жизни проявленное ко мне мужское внимание напугало и всполошило меня. Еще бы! Ведь оно представлялось мне угрожающим, грозившим нарушить привычный мой уклад.
Наверное, на моем лице отразилось такое недовольство, что мой непрошеный вздыхатель совсем смутился.
– Вы Катарина? – пробормотал он. – Я… э-э… много слышал о вас…
– От кого же?
Я сама изумилась резкости, прозвучавшей в моем голосе. Но, господи, почему я так резка с ним? Да я просто груба, до неприличия груба. Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Мы растерянно стояли друг против друга. Я снова вынула из кармана носовой платок и принялась мять его в пальцах. Незадачливый кавалер заложил руки за спину.
Не знаю, что случилось бы дальше, но нас обоих выручила обаятельная незнакомка.
– Здравствуйте, Катарина! Я – Эмилия, Эми. Я так много слышала о вас. Мы с Иоганном опоздали к началу семестра. Мы из Берлина…
«Мы с Иоганном!» Я совершенно перестала понимать себя. Почему я, кажется, готова расплакаться в голос? Какое мне дело до того, что какая-то девица говорит о себе и об этом самом Иоганне «мы»! Я чувствовала, что щеки мои пылают. Усилием воли я заставила себя поднять глаза. Две пары дружелюбных глаз, навстречу моим; две чудесные улыбки. Что-то показалось мне странным. Но что? Незнакомка по-своему истолковала мою растерянность:
– Кати! Вы ведь позволите мне называть вас так? – я смущенно кивнула. – Вас удивляет наше с Иоганном сходство? Мы – близнецы…
Эти глаза, эти улыбки обезоруживали.
– Впервые вижу взрослых близнецов, – выпалила я. – Простите, что за чушь я несу!
Иоганн облегченно вздохнул. И вдруг мы все трое разом рассмеялись и почувствовали себя легко и свободно. Ганно пригласил меня. Я и не предполагала, что вальс и танго – это что-то изумительное. Через несколько упоительных мгновений мне уже казалось, будто я лечу, отталкиваясь носками легких туфель от начищенного паркета. Как-то незаметно мы оказались в центре внимания восхищенных гостей. Я с изумлением осознала, что восхищаются… мною! Да, да, представьте себе! Моей грацией, моим изяществом. И совершенно искренне. Растерянная, радостно возбужденная, я прервала танец, схватила Иоганна за руку и увлекла в другой конец комнаты. Он подвинул стул и принес лимонад в граненом бокале. Мне ужасно хотелось пить. Утолив первую жажду, я огляделась, ища Эмилию. А, вот она. Сестра Иоганна улыбнулась и покачала головой в ответ на приглашение Макса.
– Почему Эмилия не танцует? – спросила я. Голос мой невольно выразил теплоту и доверительность.
– У нее больное сердце, – серьезно проговорил Иоганн.
Я не понимала, как это произошло, но я слегка пожала его руку. И тотчас ужаснулась: что он может подумать об этом? Но почему, почему меня так волнует, что подумает обо мне этот незнакомый юноша? Нет, на сегодня довольно!
– Мне пора. Уже поздно, – я хотела, чтобы мой голос прозвучал решительно, но снова в нем прозвучали неожиданная откровенность и теплота.
– Мы проводим… – предложил Иоганн. Он больше не испытывал неловкости, а я сама не понимала, почему этот юноша кажется мне умным и своеобразным, мы ведь, в сущности, ни о чем не говорили.
– Мы уходим, Эми! – окликнул он сестру и замахал рукой, когда она повернулась к нам.

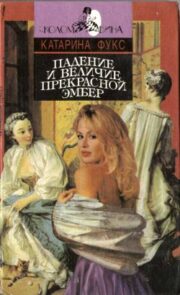
"Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 1" друзьям в соцсетях.