Таким образом, она заранее привела, как ей казалось, к согласию свои интересы и законы приличия. Под угрозой столь ужасной опасности следовало все обдумать с неукоснительной логикой. Перед встречей с такой опасной противницей, как мадемуазель де Таверне, которая склонна была слушаться не сердца своего, а своей гордыни, следовало хорошо вооружиться.
Все обдумав, Мария Антуанетта решила ехать. Она бы рада была предупредить Шарни, чтобы он не сделал какого-нибудь ложного шага, но ее останавливала мысль о том, что она наверняка окружена шпионами и любой ее поступок в такой миг будет дурно истолкован; она была настолько убеждена в рассудительности, преданности и решимости Оливье, что не сомневалась: он одобрит все, что она сочтет нужным предпринять.
Было уже три часа пополудни; начался обед, сопровождавшийся обычной парадной пышностью, затем представления, визиты. Королева принимала визитеров с безмятежным челом и с приветливостью, которая прекрасно сочеталась с ее всем известной гордостью. С теми, кого она числила среди своих врагов, она вела себя особенно твердо, как ведут себя люди, не знающие за собой никакой вины.
При дворе было многолюдно, как никогда: в королеву, над которой нависла угроза, впивались тысячи любопытных взглядов. Мария Антуанетта предстала перед всеми, повергла врагов, привела в восторг друзей; равнодушных она превратила в усердных поклонников, усердных – в пылких обожателей и при этом блистала такой красотой и держалась так величаво, что сам король выразил ей во всеуслышание свое восхищение.
А когда все было кончено, она стерла с лица деланную улыбку, вновь предалась своим воспоминаниям, своим горестям; она осталась одна, совсем одна в этом мире; она переменила туалет – теперь на ней была серая шляпа с голубыми лентами и цветами, шелковое платье стального цвета, – села в карету в сопровождении одной-единственной дамы и приказала везти себя в аббатство Сен-Дени.
В это время монахини расходились по кельям и после сдержанного шума, царившего в трапезной, погружались в молчаливые размышления, предшествовавшие вечерней молитве.
Королева велела позвать в приемную мадемуазель Андреа де Таверне.
В просторном домашнем платье из белого льна девушка стояла на коленях у окна и смотрела, как над старыми липами встает луна; поэзия наступающего вечера вдохновляла ее на страстные, горячие молитвы, которые она воссылала Господу, облегчая душу.
Андреа со всем пылом предалась неутолимой печали добровольного изгнания. Эта пытка знакома только сильным душам; в ней есть и мука, и отрада. Она сопряжена с тою же тоской, что и все горести на свете. Но есть в ней блаженство, которое дано изведать только тем, кто способен принести счастье в жертву гордыне.
Андреа сама покинула двор, сама порвала со всем, что питало ее любовь. Гордая, как Клеопатра, она не перенесла бы мысли о том, что г-н де Шарни думает о другой женщине, будь эта женщина даже королевой.
У нее не было никаких доказательств, что Шарни пылко влюблен в другую. Малейшие улики не ускользнули бы от внимания ревнивой Андреа. Но разве она не видела, как Шарни равнодушно прошел мимо нее? Разве не подметила, что королева дорожит, пускай бессознательно, но дорожит поклонением и восхищением Оливье?
Зачем же тогда ей было оставаться в Версале? Вымаливать комплименты? Ловить улыбки? Время от времени радоваться, что он предложил ей руку, коснулся ее руки на прогулке, когда королева уступит ей своего любезного спутника, вынужденная ненадолго удалить его от себя?
Нет, стоицизм Андреа не допускал унизительной слабости, не допускал сделок. Любовь и взаимность означают жизнь, любовь и раненая гордость сулят монастырь.
– Никогда! Никогда! – твердила гордая Андреа. – Тот, кого я буду любить в безвестности, кто останется для меня тенью, образом, воспоминанием, тот никогда меня не оскорбит, тот всегда будет мне улыбаться и никогда не обманет!
Вот почему она провела столько печальных, но безмятежных ночей; вот почему Андреа была счастлива, что может плакать, когда ее одолевает слабость, проклинать судьбу, когда наступает отчаяние. И добровольное уединение, позволявшее ей не поступаться ни любовью, ни достоинством, было ей дороже, чем возможность видеть человека, которого она ненавидела за то, что не могла не любить.
В сущности, безмолвные размышления о чистой любви, возвышенный восторг одинокой души были для дикарки Андреа куда привлекательнее, чем блестящие версальские празднества, и необходимость склоняться перед соперницами, и страх выдать тайну, заключенную в сердце.
Мы уже сказали, что вечером в день Святого Людовика королева приехала в Сен-Дени; Андреа, погруженная в задумчивость, сидела у себя в келье.
К ней пришли и сообщили, что прибыла королева, что капитул принимает ее величество в большой приемной и что после первых приветствий Мария Антуанетта осведомилась, нельзя ли ей поговорить с мадемуазель де Таверне.
И странное дело, для Андреа, чье сердце было размягчено любовью, этого оказалось достаточно, чтобы потянуться навстречу аромату Версаля, аромату, который еще накануне она проклинала, но который становился ей все дороже, чем дальше она от него отходила: он сделался ей дорог, как все, что исчезает, все, что забывается, дорог – почти как сама любовь!
– Королева! – прошептала Андреа. – Королева в Сен-Дени! Королева меня зовет!
– Скорее, не мешкайте, – поторопили ее.
Она и в самом деле не стала мешкать: накинула на плечи длинную монашескую накидку, подпоясала широкое платье льняным поясом и, не бросив ни единого взгляда в свое зеркальце, поспешила вслед за привратницей, которая за ней пришла.
Но не сделала она и ста шагов, как собственная радость показалась ей унизительной.
«Почему мое сердце так встрепенулось? – спросила она себя. – Какое дело Андреа де Таверне до того, что французская королева посетила аббатство Сен-Дени? Чем мне гордиться? Королева приехала не ради меня. Чему мне радоваться? Я больше не люблю королеву. Ну, успокойся, же, дурная монахиня: ты не принадлежишь ни Богу, ни свету, так постарайся хотя бы держать себя в руках».
Так распекала себя Андреа, спускаясь по главной лестнице; усилием воли она согнала с лица румянец нетерпения, умерила поспешность движений. Поэтому последние шесть ступеней она одолела медленнее, чем предыдущие тридцать.
Когда Андреа миновала хоры и вступила в парадную приемную, где руки послушниц уже успели зажечь люстры и затеплить свечи, она была бледна и спокойна.
Едва она услышала, как привратница, которую за ней посылали, произносит ее имя, едва заметила Марию Антуанетту, сидевшую в кресле аббатисы в окружении самых высокородных монахинь капитула, которые толпились вокруг нее, девушка затрепетала и с трудом прошла оставшиеся шаги.
– Подойдите же, мадемуазель, я хочу с вами поговорить, – с полуулыбкой обратилась к ней королева.
Андреа приблизилась и склонила голову.
– Вы позволите, мать моя? – спросила королева, обернувшись к настоятельнице.
В ответ та присела в реверансе и вышла из приемной, а за нею и остальные монахини.
Королева осталась наедине с Андреа, чье сердце билось так громко, что, казалось, его биение можно было бы услышать, когда бы не медленный стук маятника старинных часов.
26. Мертвое сердце
Разговор, как подобало, начала королева.
– Вот и вы, мадемуазель, – с тонкой улыбкой сказала она. – Как странно видеть вас в монашеском одеянии!
Андреа не отвечала.
– Видеть старую приятельницу, – продолжала королева, – уже порвавшую с миром, в котором все мы еще живем, – это все равно что внимать суровому назиданию, исходящему из гроба. Вы согласны со мной, мадемуазель?
– Ваше величество, – возразила Андреа, – разве кто-нибудь посмеет читать назидания королеве? Сама смерть и та явится к королеве без предупреждения. Да и может ли быть иначе?
– Почему?
– Потому, государыня, что королева в силу своего высокого положения предназначена для того, чтобы не претерпевать никаких лишений, кроме самых неизбежных. Она обладает всем, что может украсить ее жизнь; а если чего-либо ей недостает, она берет это у других.
На лице у королевы отразилось удивление.
– Таково право коронованной особы, – поспешила добавить Андреа. – Для королевы – все люди подданные, чье достояние, честь и сама жизнь принадлежат властителям. Значит, и жизнь, и честь, и все духовные и земные богатства людей суть собственность королевы.
– Эта теория меня удивляет, – медленно произнесла Мария Антуанетта. – По-вашему, королева у нас в стране – это некая сказочная людоедка, поглощающая счастье и богатство обычных людей. Разве я такова, Андреа? Скажите начистоту, разве у вас были поводы на меня жаловаться, когда вы жили при дворе?
– Ваше величество, вы уже изволили задавать мне этот вопрос, когда я покидала двор, – ответила Андреа. – Ныне я отвечаю так же, как тогда: нет, государыня.
– Но часто бывает, – вновь заговорила королева, – что нас огорчает обида, причиненная вовсе не нам. Быть может, я навредила кому-нибудь из ваших близких и тем заслужила суровые слова, которые вы мне сказали? Андреа, в эту обитель, которую вы избрали себе убежищем, не должно быть доступа мирским страстям. Здесь Господь учит нас кротости, смирению, умению прощать – тем добродетелям, в коих он служит нам образцом. Неужели сестра моя во Христе, которую я здесь посетила, встретит меня с насупленным челом и желчными речами? Неужели я, приехавшая сюда как друг, услышу упреки и найду вражду и непримиримость?
Андреа подняла взгляд, пораженная таким миролюбием, к коему отнюдь не были приучены люди Марии Антуанетты: когда ей противоречили, она становилась суровой и надменной.
Одинокая дикарка Андреа была глубоко тронута тем, что королева без гнева выслушала ее речи, явив чудеса терпения и дружеского участия.
– Вы хорошо знаете, ваше величество, – уже тише сказала она, – что никто из Таверне не может быть вашим врагом.

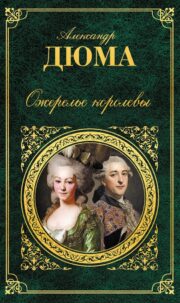
"Ожерелье королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ожерелье королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ожерелье королевы" друзьям в соцсетях.