К тому времени как они пошли к вечерне, Амадея чувствовала себя усталой, но возбуждение ее не проходило.
Наконец звон колокола возвестил ужин. Амадея ничего не ела с самого завтрака, но и тогда была слишком взволнована, чтобы как следует поесть. Сейчас перед ней поставили тарелку с бобами, картофелем и овощами. На десерт были фрукты из монастырского сада. За ужином монахини тихо переговаривались. Среди них были ровесницы Амадеи в одежде послушниц и в одеяниях желающих вступить в орден. Заметила Амадея и совсем молоденьких девушек, но, возможно, они просто очень молодо выглядели. Монахини в черных покрывалах казались ей святыми: ангельские лица, отрешенные улыбки и теплые, понимающие взгляды. Никогда еще Амадея не чувствовала себя такой счастливой. Некоторые дружески заговаривали с ней. Она обратила внимание на то, что несколько монахинь помоложе заботились о престарелых, которые были привезены к столу в инвалидных колясках и казались добрыми бабушками в окружении дочерей и внучек. После ужина последовали полчаса отдыха: монахини показывали друг другу образцы вышивок для облачения, которое они шили священникам, потом началось получасовое чтение общих молитв. Следующие два часа все молились в молчании, а после заключительной общей молитвы разошлись по кельям. Назавтра предстояло встать в половине шестого и к шести идти на молитвы. Они будут молиться два часа перед восьмичасовой мессой. Завтрак, работа, покаяние, потом обед. Тяжкий труд и молитвы… Но ничто в этом суровом распорядке не пугало Амадею. Она знала, на что идет, и именно этого хотела, ее жизнь отныне будет заполненной, а сердце — легким. Ровно в десять, войдя в келью, она увидела двух послушниц и одну новенькую, как и она сама. Они обменялись кивками, улыбнулись друг другу и потушили свет, что бы переодеться в ночные сорочки, сшитые из грубой шерстяной ткани, колючей даже после сотни стирок. Кельи не отапливались, рубашки немилосердно кусались, но то считалось очередной жертвой, которую девушки приносили добровольно: ведь им предстояло стать невестами Христа распятого, умершего в муках во имя людей. Это самое малое, что они могут сделать для него. Амадея знала, что со временем привыкнет ко всему. На секунду она вспомнила о тонких шелковых и батистовых сорочках, любовно сшитых матерью, и тут же тяжело вздохнула: значит, завтра, ей придется причислить к своим грехам еще и этот. Она не должна приносить в дом Божий подобные воспоминания. А если они все-таки будут вторгаться в ее жизнь, придется нести покаяние и немедленно отрекаться от таких мыслей. У нее нет времени на то, чтобы скорбеть о былой роскоши.
Этой ночью она лежала в постели, думая о матери и Дафне и молясь за их благополучие. За то, чтобы Господь позаботился о них и дал здоровья и счастья. На секунду, всего лишь на секунду, Амадея ощутила, как слезы жгут глаза, и стала молиться еще более истово. Она сама должна быть судьей собственной совести и контролировать свои мысли. Ей следует думать только о Христе, как велела мать-настоятельница.
Амадея помолилась за настоятельницу и, уже засыпая, помолилась за бабушку, которая умерла два месяца назад и сейчас пребывает на небесах.
А Беата, лежа рядом с уснувшей в слезах Дафной, тоже думала о матери и о ребенке, которого только что отдала Богу. Как и Амадея, она молилась о том, чтобы Господь дал старшей дочери здоровья и счастья. А потом по непонятной причине произнесла молитву за всех евреев.
Глава 12
Для Амадеи дни мелькали один за другим, заполненные молитвой и работой. Большую часть времени она проводила на кухне и в прачечной, хотя однажды работала и в саду вместе с Эдит Штайн. Обе молчали, но Амадея была счастлива находиться рядом с ней, и время от времени они обменивались улыбками. Позже, когда настало время покаяния, Амадее вдруг пришло в голову, что она не должна проникаться к Штайн личным интересом. После этого девушка стала избегать Эдит в попытке очистить свой разум от мыслей об этой женщине, от всего, что она о ней знала, чем восхищалась. Сестра Тереза Бенедикта во Христе была всего лишь одной из монахинь кармелитского ордена, и не пристало думать о ней как о светской особе.
Амадея регулярно получала письма от матери и Дафны, дававшие ей некоторые сведения о том, что происходит в мире. Нюрнбергские расовые законы против евреев были приняты в сентябре, и после этого ситуация еще больше обострилась — еще один повод молиться за евреев. Ее мать на Рождество прислала апельсины для всего монастыря: неслыханно щедрое угощение. В январе сестры позволили Амадее приступить к послушничеству и выдали одеяние послушницы, что показалось ей одним из самых важных событий в жизни. После этого к ней ненадолго допустили мать и Дафну. При виде родных Амадея просияла улыбкой и попыталась протянуть руку через мелкую решетку. Увидев ее в монашеском одеянии, мать заплакала. Дафна хмуро уставилась на сестру.
— Ты не похожа на себя, — расстроено объявила она, почти испуганная видом Амадеи. А Беата, мгновенно заметившая, как счастлива дочь, едва не умерла от разрыва сердца.
— Но это и не я. Теперь это монахиня, — пояснила Амадея с улыбкой. Ей не терпелось принять новое имя. — Вы обе чудесно выглядите.
— И ты тоже, — пробормотала Беата, обнимая дочь взглядом. Все трое просунули пальцы сквозь отверстия решетки, но этих прикосновений было так недостаточно… Беата терзалась мыслью о том, что никогда больше не сможет обнять дочь.
— Ты вернешься домой? — с надеждой спросила Дафна, не отрывая взгляда от сестры.
— Я дома, милая. Как твои занятия?
— Все в порядке, — жалобно пробормотала Дафна. Жизнь без Амадеи была совсем не та. И в доме стояла мертвая тишина, несмотря на все усилия Беаты больше времени проводить с младшей дочерью. Дух, наполнявший их энергией и светом, теперь пребывал в ином месте.
Время визита закончилось слишком быстро. В следующий раз они встретились только в конце года. К тому времени Дафне было уже одиннадцать с половиной. Летом Беата водила ее на Олимпийские игры. Зрелище было, поистине великолепным. Особенно Дафне понравилось плавание, о чем она и написала сестре, звавшейся теперь сестрой Терезой Кармелитской. Амадеи де Валлеран больше не существовало.
Следующим летом сестра Тереза Кармелитская попросила разрешения дать временные обеты бедности, целомудрия и покорности, которые еще больше свяжут ее с орденом. Большинством голосов разрешение было дано. До пострига было еще шесть лет, но она уже чувствовала себя так, словно была монахиней всю жизнь. Шел тысяча девятьсот тридцать седьмой год.
Преследования евреев все ужесточались, и до монастыря доходили тревожные вести. Появились запреты на профессии преподавателя, дантиста и бухгалтера. Было похоже, что мало-помалу режим Гитлера выдавливает евреев из страны. Их безжалостно лишали права быть полноценными членами общества. Это давало сестрам-кармелиткам повод молиться за несчастных. В те дни им нужно было о многом молиться.
В марте тридцать восьмого войска нацистов оккупировали Австрию, присоединив ее к Германии, и сотням тысяч австрийских евреев пришлось эмигрировать.
В апреле евреям Германии было приказано официально подать декларации о доходах с приложением списков недвижимого имущества. Беата не могла не беспокоиться, как отразится это на отце и братьях. Насколько ей было известно, они по-прежнему владели и управляли банком.
Вскоре после того как Амадея дала временные обеты, ситуация в стране значительно ухудшилась. В те дни девушка почти постоянно работала в саду, а по ночам шила облачения и перечитывала письма матери. Беата сообщала, что в июле каждый еврей старше пятнадцати лет независимо от пола должен был зарегистрироваться в полиции, получить специальное удостоверение, которое обязывался показывать по первому требованию полицейского. Еврейским докторам было запрещено практиковать. Очень многие профессионалы остались без работы.
Осенью Беата и Дафна вновь приехали навестить Амадею. У Беаты был встревоженный вид. Амадея была потрясена тем, как повзрослела Дафна. Девочка была красива той почти неземной красотой, которой когда-то отличалась ее мать. Амадея ласково улыбнулась ей, коснулась щеки губами и пошутила насчет интереса к мальчикам, отчего Дафна залилась краской.
В одном из писем мать сообщала, что Дафна влюбилась в молодого человека и тот отвечает ей взаимностью. Нетрудно понять почему! Этого красивого ребенка окружала атмосфера невинности, до слез трогавшая сердце Амадеи.
Письма позволяли им поддерживать хотя бы иллюзию близости. Трудно было поверить, что уже три года, как Амадея в монастыре. И хотя временами Беате казалось, что разлука длится целую вечность, иногда ей чудилось, что прошло всего несколько месяцев. Они с Дафной ужасно тосковали по Амадее, и все же реальность была столь пугающа, что Беата в некотором смысле была рада отсутствию дочери. По крайней мере, укрытая стенами монастыря, Амадея была в безопасности. Пока что у властей не было претензий и к Беате. Оставалось надеяться, что ее и впредь оставят в покое. Окружающие считали их с Дафной католичками. Какая опасность может исходить от беспомощной вдовы с дочерью, которые ни за чем не обращались к официальным лицам, не привлекали к себе внимания и жили тихой, замкнутой жизнью — в отличие от Витгенштейнов, которых знал весь город.
Беата каждый день просматривала газеты, боясь наткнуться на новости о родных. Вдруг у отца отобрали банк, дело всей его жизни?
Но пока что все было тихо.
В октябре тридцать восьмого года семнадцать тысяч евреев польского происхождения были арестованы в Германии и высланы в Польшу. Потом, в ночь с девятого на десятое ноября, грянула «хрустальная ночь», всколыхнувшая весь мир. Йозеф Геббельс организовал ночь террора и погромов, которую не скоро забудут люди. Это было что-то ужасное. Антисемитизм, подспудно тлевший последние пять лет, вырвался из-под контроля и быстро вспыхнул ярким пламенем. На территории Германии тысяча синагог были сожжены, семьдесят шесть разрушены. Семь тысяч еврейских домов и предприятий были разграблены, сотни евреев убиты, тридцать тысяч арестованы и угнаны в концентрационные лагеря. Все уцелевшие предприятия были отданы в руки арийцев; все ученики еврейской национальности изгнаны из городских школ. И словно мало еще было им унижений, евреям предстояло возместить все убытки, причиненные «хрустальной ночью». Ненависть разливалась, как река в половодье. Наутро после ночи террора Беата, слушая новости, оцепенело уставилась на приемник, не имея сил пошевелиться.

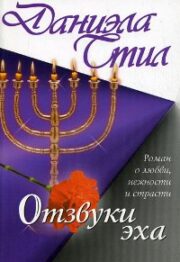
"Отзвуки эха" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отзвуки эха". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отзвуки эха" друзьям в соцсетях.