– Если он вам нравится, – сказал Дэвид громко, – возьмите его. Я к нему равнодушен.
Он тут же развязал галстук и вручил его девушке. Та была в ужасе.
– Нет, нет, – повторяла она, – Я не это имела в виду, совсем не это, пожалуйста, возьмите его, – она протянула галстук, но Дэвид не взял его обратно:
– Уверяю вас, он мне не нравится, я не буду его носить. Моя дорогая, я очень обижусь, если вы не примите его.
Он настаивал, его акцент становился заметнее, а поведение более вызывающим. Я видела по лицу девушки, как она жалеет, что оказалась невольной участницей этой торговли. Она позволила себе быть несколько более раскованной, чем это позволялось в рамках ее социального слоя, и оказалась проученной с той грубой прямотой, которой Дэвид особенно славился. Она посчитала его приятным молодым человеком, готовым поддержать словесную дуэль, но вместо этого осталась с никчемной вещью в руке и не знала, что с ней делать. Дэвид разозлил меня. Я видела, что он специально поставил ее в неловкое положение: это был не его тип девушки, и он не собирался заглаживать свое поведение. Я догадалась, что первопричиной этого поступка явилось раздражение: ему не нравилось, когда к нему относились снисходительно. Насколько я понимаю, у него не было особых оснований для недовольства. Его карьера зависела от подобного снисходительного отношения, но ему всегда нравилось думать, что можно убить двух зайцев, и поэтому он позволял себе кусать руку, ласкающую его. Все актеры такие: жить не могут без аплодисментов, но ненавидят лицо, ухмыляющееся над хлопающими ладонями.
В конце концов девушка скатала галстук и спрятала в сумочку. Я была рада, что она получила хотя бы это: возможно, со временем ее воспоминания станут более приятными. Я не оправдывала ни ее поведение, ни манеры Дэвида, но взаимоотношения между публикой и актером всегда заставляли меня испытывать неловкость.
Я быстро ретировалась, оставив своего мужа один на один с его социальным конфузом. Отошла в сторонку, едва перемолвившись словом хоть с кем-нибудь, ощущая всю бессмысленность своего участия в таком разобщенном сборище: я не принадлежала ни к одному слою, не говоря уже о том, чтобы занимать чью-нибудь сторону. И вообще, не пора ли вернуться домой и покормить Джозефа? В этот момент двое местных жителей подошли и заговорили со мной, и я их узнала.
– Ну конечно, – воскликнула женщина, – вы, должно быть, Эмма Лоуренс! Вы, кажется, не помните нас, но когда-то вы гостили у нас в Четленхэме.
– Конечно, я помню вас, – быстро сказала я, – Мистер и миссис Скотт, если не ошибаюсь? А как поживает Мери? Я давно не видела ее.
На меня нахлынули воспоминания. Я училась в школе с их дочерью, которая была тогда моей близкой подругой. Мы гостили друг у друга во время каникул, писали друг другу длинные письма и делились секретами. А потом, после окончания школы, не встречались и не переписывались. Только один раз в Лондоне мы пообедали вместе и, как я думаю, осознали обоюдное отсутствие симпатии. Мистер Скотт был преуспевающим адвокатом и очень язвительным человеком. Я никогда не осмеливалась разговаривать с ним, потому что он не упускал случая подтрунить над недостаточно образованной пятнадцатилетней девчонкой, и, хотя я не понимала, почему ему так нравилось насмехаться, я отлично ощущала злобу, исходившую от него. С другой стороны, миссис Скотт была образованной, мягкой женщиной, чья внешность свидетельствовала о благополучной спокойной жизни: помню, что, несмотря на солидный достаток, ей удавалось избегать даже намека на экстравагантность. Напротив, их огромные владения и дом управлялись посредством жесткой экономии.
Она совершенно не изменилась, а ведь прошло не менее семи лет с тех пор, как я в последний раз видела ее. Ее волосы были такими же светло-русыми и собраны в такой же низкий пучок на затылке; и платье ее из светло-голубого шерстяного джерси с матерчатым поясом казалось тем же самым, в котором я ее так часто видела прежде. А оно действительно могло быть тем самым, платьем вне времени и моды. Она хорошо выглядела, и я с некоторым уколом боли, словно вспомнив о собственном возрасте, поняла, что меня не волнует ее мнение о моей шляпке.
– Мери сейчас замужем, – сообщила миссис Скотт, – разве вы не знаете? Об этом была заметка в «Таймс». Она живет рядом с нами, ее муж – барристер. Они поженились в прошлом году. А вы здесь с театром? Я не знала, что вы пошли в актрисы.
– Я не пошла, – ответила я. – Я вышла замуж за актера, вот почему я здесь. Мы пробудем в городе только один сезон.
– О, тогда вы должны увидеться с Мери. Она живет неподалеку отсюда, мы часто встречаемся. Я обязательно скажу ей, что видела вас, и, возможно, она заедет к вам, когда будет в Хирфорде.
– Это будет чудесно.
– А как ваш отец? Вы часто видитесь с ним сейчас? Иногда мне удается прочесть о нем в газетах. Он ведь по-прежнему в Кэмбриджс?
– Да, время от времени я навещаю его.
Интересно, подумала я, хватит ли у нее духа спросить в таком же легкомысленном тоне о моей матери, и если да, то отвечу ли я, как обычно: «Она умерла». Я видела, как ей хочется задать вопрос, и чувствовала, как мне самой хочется ответить, но в это время вмешался мистер Скотт.
– А давно вы замужем, Эмма? – спросил он.
Я посмотрела на него: в его взгляде сквозил расчет, и я заметила любопытство, о котором не догадывалась прежде.
– Около четырех лет.
– Значит, вы вышли замуж совсем юной.
– Не особенно. Мне было двадцать два.
Я почувствовала, на такое критическое замечание мне следовало бы ответить, что это Мери поздно вышла замуж; но он продолжал:
– А у вас есть дети? – я поняла, куда он клонит. Правильно ответить на этот вопрос было невозможно: если я скажу – нет, он сочтет меня одной из тех эгоистичных молоденьких штучек, которые пренебрегают своим общественным долгом и выходят замуж ради развлечений; если я отвечу, что дети есть, но не сообщу точные даты их рождения, он решит, что я вышла замуж по необходимости.
– У меня двое детей, – сказала я, – девочка и мальчик.
– Да, – заметил мистер Скотт, – как вы повзрослели!
– Как чудесно, – подхватила миссис Скотт своим обычным ровным тоном. – Как, должно быть, прекрасно рано заводить детей, теперь так многие делают. А как вы управляетесь? Вам ведь даже удалось выбраться на эту вечеринку?
– О, у меня няня-француженка, – ответила я, пытаясь казаться этакой богачкой: я знала, что это шокирует их, потому что, по их мнению, возможным считалось тратить огромные суммы на садовников и домашнюю прислугу, а также на украшение интерьера, но иметь няньку было таким же безнравственным, как иметь личного шофера.
– Она мне необходима, – добавила я в подкрепление своих слов. – Чтобы дать возможность выходить. Особенно в таком тихом местечке, как это.
– Думаю, вам очень понравится здесь летом. Так красиво, и весь Уэльс словно стоит у вас на пороге. Мы и сами живем здесь неподалеку, переехали из Челтенхэма, когда наша семья увеличилась. Дети живут отдельно, и большой дом стал слишком велик для нас…
И в течение последующих пяти минут она рассказывала о том, насколько дом стал велик для нее. В отличие от своего мужа она мной нисколько не интересовалась. Едва прислушиваясь к ее словам, я думала, не ее ли рафинированная безликость так привлекала меня в детстве: ее лицо могло принадлежать только женщине, рожденной для должности руководителя. Я видела такие лица у школьных директрис, у членов различных комитетов, у докторов и университетских преподавателей, но не у простых людей. А вот черты моей подвижной, худенькой матери, я часто замечала у буфетчиц и жительниц окраин. Я задумалась о своей матери, а голос миссис Скотт все звучал у меня в ушах, донося до меня истории судеб ее остальных детей и описание свадебного платья Мери. Моя мама была инвалидом и всю свою жизнь страдала от туберкулеза, который и убил ее за год до нашей свадьбы, когда ей было всего сорок три. Я никогда не знала ее особенно хорошо: я была нянькиным ребенком, для меня мать была экзотической несчастной женщиной, несколько месяцев проводившей в санатории, а остальное время – в своей кровати. С самого раннего возраста запомнилось мне постоянное сочувствие окружающих: мы с отцом казались единственными людьми, способными спокойно воспринимать ситуацию. А такие ситуации всегда притягивают людей, подобных Мери Скотт. Теперь мне кажется, что они постоянно ожидали моей собственной трагической смерти, как в романе Шарлотты Бронте, в школьной маленькой кроватке. Но вот я жива и здорова и теперь понимаю, что за это должна благодарить поведению моего замечательного отца, развившего во мне то, что сейчас оказалось мне полезным: прощение некоторого снисходительного отношения к себе. Я научилась держать определенную дистанцию с людьми вроде миссис Скотт, которая отождествлялась мною с неким образом заменителя матери. Мне не хотелось иметь такую мать, даже в детстве, но она олицетворяла так необходимую мне стабильность. Она была доброй женщиной, я уважала то, как она управляла семьей и мужем. Но она слишком многого была лишена.
Моя мать, помимо того, что была инвалидом, еще и пила. Не очень сильно, просто несколько больше своей нормы или больше нормы женщины, способной вести нормальную жизнь. Думаю, мой отец не пытался помешать ей. Интересно, впервые подумала я, знали ли об этом Скотты; возможно, знали, потому что однажды Мери приехала к нам в Кэмбридж и увидела бутылки из-под джина. Мои размышления были прерваны появлением Дэвида, подхватившего меня под локоть и помешавшего миссис Скотт закончить свой монолог.
– Думаю, нам пора идти, Эмма, – сказал он, когда она замолчала. – Я пригласил несколько друзей выпить, здесь много не отыщешь.
– Это мой муж, Дэвид Эванс, – быстро представила я его. Я не знаю, кого мне хотелось разозлить, но, кажется, мне по вообще не удалось, потому что Дэвид тут же включил свое обаяние.

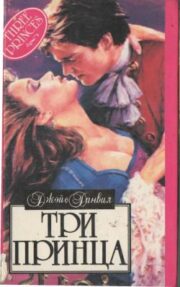
"Открытие сезона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открытие сезона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открытие сезона" друзьям в соцсетях.